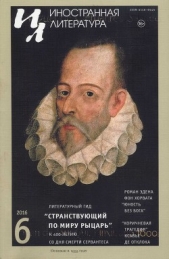Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Я принес с этой прогулки домой великие сокровища: звуковые и строфические соответствия моим впечатлениям. — Моцарт в одном из писем, написанных по пути из Вены в Прагу, жалуется, что не способен — когда едет в карете, многое видит и многим наслаждается — сочинять музыку. Его жалоба несправедлива. Потому что он обладал даром с такой надежностью представлять себе музыкальные мысли, заставляя их звучать во вневременном пространстве, что готовая работа впечатывалась в его мозг, как нотные литеры. Он не нуждался в пере и бумаге. Он мог позже просто переписать эти ноты — не проверяя их и ничего в них не меняя — с восковых табличек, существующих в его голове. Так, рассказывают, что увертюру к «Дон Жуану» он написал в предпоследнюю ночь перед премьерой, в гостинице «У трех львов». Констанца, его жена, в это время должна была читать ему сказки, чтобы он не заснул, — и варить пунш, чтобы ему было тепло. Он смеялся над сказкой о волшебной лампе Аладдина, от пунша чувствовал себя еще более усталым и часто засыпал. Его тело изнемогло, дух — тоже. Напряжение, потребное для записывания увертюры, было ему не по силам. Он водил пером по бумаге, только пока слышал голос жены. Стоило ей замолчать, и он задремывал. Когда она снова начинала говорить, он выныривал из темных пропастей сна, опять чувствовал, как стучит его сердце. И все же он не ошибался, не мог ошибиться. Мрачная, горькая, проникнутая гнетущим ужасом, разъеденная плотскими страстями, дикарская и наполненная пронзительными мгновениями, наполненная стоячими водами сладких песнопений, как первые беспощадные видения больного лихорадкой, — такова эта музыка. Она больше похожа на самого Моцарта, чем любая другая. — Это кажется мне совершенно необъяснимым… и удивительным: кажется единственной в своем роде демонологией. — Вопреки всем попыткам объяснения и рассказывания, даже самый близкий из людей остается для нас чужим.
То, что врéзалось мне в сознание за эти дни, не есть что-то определенное, не имеет формы. Чувство удовлетворенности — только сбивчивое песнопение: мрак в моем сердце звучит словно сквозь туман, воспринимается как перешептывание звуков. Но я обладаю силой, потребной, чтобы уплотнить и расспросить это Неведомое. Пусть оно, пока я сижу за письменным столом, еще несколько секунд назад воспринималось мною как в полусне — когда я хватаюсь за него с волей к работе, с каким-то представлением, которое внезапно во мне нашлось, я получаю тот образ, который искал. — — Работа над новой сонатой продвигается медленно; но мне кажется, что ее содержание, ее движения, фигуры, которые она мне навязывает, контрапунктное плетение, которого от меня требует, отличаются богатством и свежестью; сокровенная радость — награда за мои труды. Страна, по которой я странствую в этой сонате, действительно кажется мне знакомой страной моей памяти. Она сверкает в лучах нежданного счастья. И сегодня оно кажется мне ничем не омраченным, потому что я снова увидел по-мартовски зардевшееся лицо Тутайна. Конечно, это счастье мимолетно, оно уже улетучилось. Гроб, скрывающий в себе труп, вторгается, как глубокая печаль, в мои грезы; но он не разрушает их, а лишь дополняет чем-то противоположным; счастье отбрасывает тень, как если бы оно было живой богиней, существом из плоти и крови, нежной соседкой, обитающей рядом со мной.
Через несколько минут после того, как я, вернувшись домой, сел за письменный стол, Аякс тоже вернулся с почты. Он осторожно приоткрыл дверь в мою комнату, увидел, что я пишу — или, во всяком случае, держу в руке ручку, — и снова исчез, молчаливо выразив одобрение. — А я, как случалось уже много раз, начал попеременно дополнять это «Свидетельство» и мысленно следовать за музыкальными идеями сонаты, уводящими меня все дальше.
— — — — — — — — — — — — — — — — — —
За обедом Аякс сказал, что сегодня никаких писем не было. Во второй половине дня я чувствовал себя таким бодрым, что смог продолжить работу.
Вот уже неделю из леса доносятся звуки взрывов, раскалывающих скальную породу. Аякс спросил, что это может значить. Я ответил: двое рабочих-взрывников заняты тем, что делают колодец. Он тотчас взглянул на меня, недоверчиво и несколько обиженно, потому что я не обсудил с ним эту работу, прежде чем она началась.
— Колодец? — после паузы переспросил он, удивленно и неодобрительно. — У нас ведь возле дома достаточно хорошей пресной воды.
— Источник, — предложил я другой ответ, будто это что-то объясняло.
Он удовольствовался такой отговоркой, как если бы вдруг вспомнил, что он мне слуга, а не товарищ. Но я увидел, как он нахмурил лоб; его лицо приняло лукавое выражение или (я могу и так это истолковать) выражение бдительности, похожее на ту смешанную со страхом готовность к обороне, с какой животные наблюдают за своим врагом. — Само собой, он уже успел за моей спиной поговорить с этими рабочими.
Я побывал у них, на взрывной площадке. Мы договорились, что дыра будет иметь диаметр два метра. Они, казалось, совсем забыли, что речь идет о колодце. Только хотели, чтобы я задал им размеры. С их стороны никаких возражений не последовало. Они ежедневно забивают молотами в каменную породу все новые отточенные стальные буры, чтобы заряжать образовавшиеся скважины взрывчаткой. Они спросили, где лучше устроить отвал. Я попросил их складывать обломки камней аккуратными штабелями, на квадратной площадке.
Почти неисчерпаемое изобилие событий, мелькавших в моем воображении, мешало мне ограничить объем новой клавирной сонаты. Уже одно то, что она состоит из семи частей, есть нечто немыслимое для обычных любителей музыки. И каких частей! Они всё больше раздавались вширь, в длину и в глубину. И их могла бы быть дюжина — так полнилась моя грудь замыслами. Эти части отличаются виртуозной разработкой; я едва не ломаю пальцы, когда играю самые быстрые из них. Никогда прежде я не сочинял столько фигураций и не испытывал такой радости от лианового леса разветвленных пассажей. Может, эту сонату в меньшей степени можно считать произведением одной отливки, чем предыдущую. Хотя в ней много радости, она не является плодом импровизации. В нее было вложено много пота и труда. Бывало, что ночью у меня от перенапряжения темнело в глазах; красивые контрапунктные идеи оглушали своим лучащимся звуком. Вторая и шестая части, с их вариациями, образуют единую пассакалию, которая (я даже не знаю, как мне пришла в голову такая мысль) посередине разорвана вставкой из трех частей в темпе Andante и Allegro.
Аякс преисполнен восхищения. Я уже сыграл ему сонату и по частям, и как целое. Он, наверное, ждет, что я посвящу ему и эту работу. Но к ней он никак не причастен. Он не воздействовал на нее. На сей раз именно тень Тутайна погрузила мое сердце в ошеломляющую полноту ощущений. — Закончив работу, я почувствовал, что осталось что-то неиспользованное. Я услышал слова Тутайна, которые он часто повторял, — о том, что я неправильно понимаю свой дух, неверно пользуюсь своими способностями: что мне следовало бы выбрать более крупную форму в качестве сосуда для моих музыкальных идей. Вместе с этим нашептанным советом в мое ухо проникли звуки деревянных духовых инструментов. И идеи мгновенно стали умножаться. Знакомый демон склонял меня к тому, чтобы я отдался на волю необъяснимого, уступил своим неразумным представлениям: чтобы поверил, будто это — еще не состоявшееся — песнопение есть сокровище, которое ни в коем случае нельзя потерять. Приступ неистовства: желание противостоять смерти, которую мы носим в сердце, посредством деяний; придумать для боли некий смысл, а для кровавой истории — цель. Вновь завести дружбу со звездами, как в детстве. Думать о лесе, как если бы не было лесорубов и не было зимы, когда крепкие поленья, сгорая в печи, превращаются в пепел. Забыть, что кошка ловит мышей; что сельдей насаживают как приманку на рыболовные крючки, чтобы атлантическая треска, проглотив такую селедку, тоже попалась на изогнутое железное острие. Простить Неотвратимое и Непостижимое, потому что жалобы все равно останутся неуслышанными. Еще раз натянуть лук своей плоти и вложить в него стрелу, которая, высоко взлетев, скроется с глаз… как если бы она достигла Бесконечного. — Я решился на создание большого музыкального произведения. Глухие тени деревянных духовых инструментов внедрились в только что завершенное здание клавирной сонаты, показав возможность других ее толкований. Сквозь радующую привлекательность филигранных фигур теперь просвечивала духовная отрешенность. Издалека, как казалось, донесся до меня звук валторн. Правда, по ночам, когда я работал, я время от времени погружался в чтение «Мессиады» Клопштока {174}. И очень удивлялся этому столь языческому христианству. Суть евангелического предания в поэме — из-за того, что в ней описывается множество ангелов, злых духов и людей, а также их поступков и речений, — сведена к нескольким ключевым фразам. Вот эти незабываемые слова: