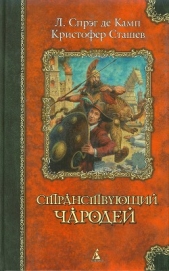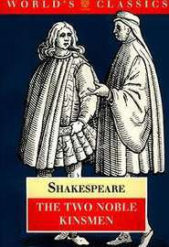Театр Шаббата

Театр Шаббата читать книгу онлайн
В центре романа классика современной американской литературы Филипа Рота — история Морриса Шаббата, талантливого кукольника и необузданного любовника, который бросает вызов не только обществу с его общепринятыми правилами и ограничениями, но и самой жизни.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Окна у Баличей были темные, во всяком случае, Шаббат не видел света сквозь стену елей. Он дважды посигналил, подождал, бибикнул еще два раза, потом еще раз, и приготовился пять минут ждать, прежде чем уехать.
Дренка спала чутко. Она спала чутко с тех пор, как стала матерью. Малейший шум, самый крошечный писк недовольства из комнаты Мэтью — и она вскакивала с постели, бежала к нему и брала его на руки. Когда Мэтью был совсем маленьким, она ложилась прямо на полу у его колыбели, боясь, что он вдруг перестанет дышать. И даже когда ему было уже четыре-пять лет, иногда по ночам ее внезапно охватывал страх за его здоровье и безопасность, и опять она всю ночь проводила в его комнате. Она растила ребенка так же, как делала все остальное, — лбом стены прошибала. Стоило ввести ее в искушение, дать ей познать материнство, познакомить с новым программным обеспечением, — и она раскрывалась вся, вкладывала в это всю свою бешеную энергию, и ничто не могло ее удержать. В полной своей боевой мощи эта женщина была непобедима. Ни к чему, что бы от нее ни потребовалось, она не испытывала отвращения. Страх — да, и сильный; но отвращение — никогда. Какой находкой стала для него эта ни к чему не равнодушная славянка, для которой все ее существование было одним большим экспериментом; и ведь он нашел этот эротический маяк своей жизни не где-нибудь на рю Сен-Дени недалеко от площади Шатле, а в Мадамаска-Фолс, столице осторожности, где самой сильной встряской считается переход на зимнее и летнее время дважды в год.
Он подъехал поближе к дому и услышал, как дышат лошади Баличей в загоне. Две из них выглядывали из-за забора. Он откупорил бутылку «Столичной». Ему случалось иногда пить водку с тех пор, как он ушел в море, но никогда он не пил столько, сколько пила Розеанна. Эта умеренность, да еще обрезание — вот и все, что он мог предъявить в доказательство того, что он еврей. Что ж, возможно, это к лучшему. Он сделал пару глотков, и тут она появилась, в ночной рубашке и шали на плечах. Он протянул руки, она нагнулась, и… вот они! Двести шестьдесят миль по холмам — но ради грудей Дренки стоило.
— Что ты, Микки? Что случилось?
— Кажется, у меня маловато шансов кончить тебе в рот?
— Дорогой, нет!
— Садись в машину.
— Нет, нет. Завтра.
— Он взял у нее фонарик и посветил себе между ног.
— О, какой большой! Дорогой мой! Я сейчас не могу. Матё…
— Если он проснется раньше, чем я кончу, черт с ними, мы убежим, мы наконец сделаем это, я заведу мотор и мы убежим, как Вронский и Анна. Хватит играть в прятки. Мы уже целую жизнь скрываемся.
— Я имею в виду Мэтью. Он сегодня работает. Он может проехать мимо.
— Он подумает, подростки обжимаются. Садись, Дренка.
— Нельзя! Ты с ума сошел. Мэтью знает эту машину. А ты еще и пьян. Мне надо бежать домой! Я люблю тебя!
— Розеанна может завтра вернуться.
— Но ты говорил: еще две недели! — воскликнула она.
— А с ним что мне делать?
— Послушай, — Дренка протянула руку в окно машины, сжала рукой, дернула… — Иди же домой! — умоляюще произнесла она и побежала по тропинке к дому.
За пятнадцать минут езды до Брик-Фёрнис-роуд Шаббату встретилась на дороге только одна машина — патрульный автомобиль полиции штата. Так вот почему она не спит: слушает свой прибор. Воодушевленный мыслью о библейской справедливости, — ее сын задерживает его за совершение полового акта в извращенной форме, — он посигналил и мигнул фарами. Но невезенье на время кончилось. Никто не стал преследовать самого опасного сексуального маньяка штата, никто не потребовал у него удостоверение и штамп о регистрации; никто не предложил ему объяснить, почему он ведет машину, сжимая в одной руке бутылку водки, а в другой — собственный член, и думает при этом совсем не о дороге, и даже не о Дренке, а о девушке с детским личиком и умом, который сама ясность, о бледной блондинке с опавшими плечами, нежным голоском и свежим порезом на запястье, о той, которая всего три недели назад полностью слетела с катушек.
«Не смейся надо мной, / Я — старый дурень / Восьмидесяти с лишним лет, / Боюсь, я не совсем в своем уме. / Признаться…»
Дальше он забыл, как отрезало. Дело было на следующей остановке после Астор-плейс. Но и то, что, побираясь в метро по пути на похороны Линка, после мягкого порно с коэновской Росой, он вспомнил хотя бы это, было огромным мнемоническим сюрпризом. «Признаться…» — в чем признаться? Признаваться не должно быть так тяжело. Сознание — вечный двигатель. Ты никогда ни от чего не свободен. Твой ум всегда во власти всего. Личность — это безмерность, дяденька, это созвездие обломков, и Млечный Путь средь них ничтожен; твоя личность ведет тебя, как ведут звезды слепую стрелу Купидона меж двух диких гусей, осеняющих крылами Дренкину гусиную дырочку; и лежа на своей онкологической хорватке, ты похотливо передразниваешь их хриплый канадский крик и оставляешь на ее злокачественной опухоли свои белые хромосомные метки.
Назад, назад, окольными путями, наверх. Никки говорит: «Сэр, вы знаете меня?» Лир говорит: «Ты — дух, я знаю. Когда ты умерла?» Корделия: «…что-то там такое… ля-ля-ля» врач: «…ля-ля-ля»; я: «Где я был раньше? Где я нахожусь? / Что это, солнце? — Я обманут всеми… ля-ля-ля». Никки: «Взгляните на меня. / Благословите. / О, что вы! На колени? Встаньте, сэр!» А Лир говорит, что это случилось во вторник в декабре 1944-го, я пришел домой из школы и увидел машины, я увидел грузовик своего отца. Почему он здесь? Я понял: что-то случилось. Я вошел и увидел отца. Он очень страдал. Он очень страдал. С матерью была истерика. Ее руки. Ее пальцы. Она стонала. Пронзительно кричала. В доме было полно народу. Просто чуть раньше приходил человек. «Мне очень жаль», — сказал он и отдал ей телеграмму. Пропал без вести. Прошел еще месяц до следующей, второй телеграммы, это было время метаний, хаоса: надежда, страх, попытки придумать правдоподобное объяснение, звонки по телефону, неуверенность, доходившие до нас слухи, что его подобрали филиппинские партизаны, кто-то из его эскадрильи говорил, что обогнал его, и, обгоняя, видел, что он тянет из последних сил, что его здорово подбили из зенитки, что его самолет падал, но на нашу территорию… а Лир говорит: «Не надо вынимать меня из гроба...», но Шаббат помнит вторую телеграмму. Месяц до этого был ужасен, но не так ужасен, как этот день: когда пришло известие о смерти, он как будто потерял еще одного брата. Полное опустошение. Мать слегла. Казалось, она умирает, боялись, что и она умрет. Нашатырь. Врач. Дом теперь был постоянно полон людей. Теперь трудно сказать, кто был у них в доме тогда. Всё смазано. Все были. Но жизнь кончилась. Семья кончилась. Я кончился. Я дал ей нашатырь, он пролился, я испугался, что убил ее. Трагический период в моей жизни. Между четырнадцатью и шестнадцатью. Ничто с этим не сравнится. Это сломало не только ее, это сломало нас всех. Мой отец уже никогда не стал прежним. Он всегда был физически крепким, надежным. Мать была более эмоциональна. Она всегда казалась либо печальнее, либо счастливее его — как когда. Вечно насвистывала. Но зато у отца была некая внушительная трезвость. И вот видеть, как он буквально распадается на части! Смотрите, как я чувствителен — помню всю эту чепуху с пятнадцати лет. Эмоции, если разогнать их до высокой скорости, не ослабевают, они всё те же, свежие и кровоточащие. Всё проходит, говорите? Ничего не проходит. Те же самые чувства и эмоции! Он был мой отец, этот привыкший вкалывать мужик. В три утра уже выезжал из дома на своем грузовичке. Возвращался вечером очень усталый, и нам приходилось вести себя тихо, потому что отцу завтра рано вставать. А если он сердился, — хотя это бывало редко, — но уж если сердился, то сердился на идиш, и это было ужасно, потому что мы даже толком не понимали, почему он сердится. Но после того дня он больше никогда не сердился. О, хоть бы он рассердился! Но он стал кротким, пассивным, все время плакал, везде плакал, в грузовичке, разговаривая с покупателями, с фермерами-гоями. Это чертово несчастье сломало моего отца! После шивы семидневного траура, он вернулся к своей работе, через год, когда кончился официальный траур, перестал плакать, но боль в нем осталась, и ее было видно за версту. Да и сам-то я чувствовал себя не здорово. Как будто я лишился части своего тела. Не петушка, конечно, нет, не руки, не ноги, но это было вполне физическое ощущение потери. Как будто меня изнутри выдолбили, как будто поработали надо мной долотом. Как раковины мечехвоста на берегу — оболочка цела, а внутри пусто. Все исчезло. Вырвано, выпотрошено. Выдолблено. Это было так тягостно. И мать слегла, я был просто уверен, что потеряю мать. Как она смогла выжить? Как мы все смогли выжить? Такая пустота была кругом. Но мне приходилось быть сильным. Мне еще раньше приходилось быть сильным. Нам было трудно, когда его отправляли куда-нибудь к черту на рога, и мы не знали номера его полевой почты. Тревога. Это такая мука. Постоянное напряжение. Я вместо Морти помогал отцу с доставкой. Морти делал то, что ни один человек в здравом уме не сделал бы. Влезал на крышу, чинил там что-то. Лежа под крыльцом на спине, в этой жуткой темени, ремонтировал электропроводку. Каждую неделю мыл полы для матери. Теперь я мыл полы. Я пытался успокоить ее, когда его отправили на Тихий океан. Каждую неделю мы ходили в кино. Про войну она бы и смотреть не пошла. Но даже если в фильме просто заходила речь о войне или упоминали о ком-то, кто далеко, за морем, мать тут же расстраивалась, и мне приходилось ее утешать. «Мам, ну это же всего лишь кино». «Мам, да не думай ты об этом!» А она плакала ужасно. И мы уходили из кино, и я долго бродил с ней по улице. Мы получали письма по почте ВВС. Иногда он рисовал на конверте смешные картинки. Я ждал этих рисунков. Но я был единственный, кого они радовали. А однажды он пролетел над нашим домом. Они базировались в Северной Каролине и должны были совершить перелет в Бостон. Он сказал нам: «Я пролечу над домом. На Б-25». Женщины высыпали на улицу прямо в фартуках. Отец в середине рабочего дня приехал домой на своем грузовике. Мой друг Рон пришел. И Морти сделал это — пролетел над нами и качнул крылом, плоским чаячьим крылом. Мы с Роном махали ему. Он был для меня героем. Он был поразительно нежен со мной, с младшим, на пять лет младше его братом. Он был отлично сложен. Толкал ядро. Был звездой на беговой дорожке. Он мог послать футбольный мяч чуть ли не на всю длину поля. Отлично давал футбольный пас и толкал ядро — такой талант: бросать что-то, и бросать далеко. Я думал об этом после того, как его не стало. Сидел на уроках и думал, что способность далеко бросать могла бы пригодиться ему, раненому, в джунглях. Ранен двенадцатого декабря и умер от ран пятнадцатого. Еще одна боль: он умер в госпитале. Другие члены команды погибли сразу, но самолет был сбит над территорией, контролируемой партизанами, и партизаны подобрали его, он попал в госпиталь и жил еще три дня. И это было еще хуже. Вся команда была убита на месте, а мой брат жил еще три дня. Я был в ступоре. Пришел Рон. Он вообще-то так часто бывал у нас, что, можно сказать, жил. Он сказал: «Пойдем на улицу». Я ответил: «Не могу». Он сказал: «Что с тобой?» Я не мог говорить. Прошло несколько дней прежде, чем я смог ему рассказать. Но в школе я никому не мог сказать. Не мог, и всё. Я просто выговорить это не мог. У нас был учитель физкультуры, крупный, здоровый дядька, он в свое время хотел, чтобы Морти бросил легкую атлетику и занялся гимнастикой. «Как твой брат?» — иногда спрашивал он меня. «Отлично», — отвечал я. Я не мог им сказать. Да, наши учителя. Его преподаватель по труду, который всегда ставил ему одни пятерки: «Как поживает твой брат?» — «Отлично». Они потом все равно узнали, но не от меня. «Эй, как там Морти?» И я продолжал врать. Я врал снова и снова тем, кто был еще не в курсе. Я пребывал в этом ступоре по крайней мере год. Некоторое время боялся девочек, которые уже пользовались губной помадой и у которых росли сиськи. Все вдруг стало очень сложно. Мать отдала мне его часы. Это просто убивало меня, но я их носил. Я взял их с собой в море. Я брал их в армию. И в Рим. И вот он, его «Бенрас». Заводи его каждый день. Только ремешок теперь другой. И секундную стрелку все еще можно остановить. Когда я попал в команду по легкой атлетике, я стал думать о его призраке. О первом призраке в моей жизни. Я всегда был крепкий, как мой отец, как Морти. Он толкал ядро, значит, и мне надо было толкать ядро. Я был весь пропитан им. Перед тем как толкнуть ядро, я смотрел в небо и думал: наверно, он за мной сейчас наблюдает. И я просил его придать мне силы. Чемпионат штата. Я держался на пятом месте. Я понимал всю нереальность успеха, но все-таки молился ему и бросил дальше, чем бросал когда-нибудь раньше. Все равно не победил, но часть его силы перешла ко мне!