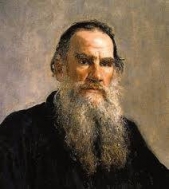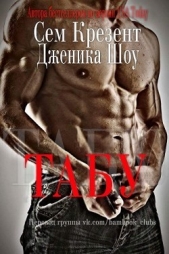Место, куда я вернусь

Место, куда я вернусь читать книгу онлайн
Роберт Пенн Уоррен (1905–1989), прозаик, поэт, философ, одна из самых ярких фигур в американской литературе XX века. В России наибольшей популярностью пользовался его роман «Вся королевская рать» (1946), по которому был снят многосерийный телефильм с Г. Жженовым в главной роли. Герой романа «Место, куда я вернусь», впервые переведенного на русский язык, — ученый-филолог с мировым именем Джед Тьюксбери, в котором угадываются черты самого Уоррена. Прожив долгую, полную событий и страстей жизнь, Джед понимает: у него есть место, куда он вернется в конце своей одиссеи…
Этот роман Роберта Пенна Уоррена в России ранее не издавался
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут я стал размышлять о том, что такое Нашвилл на самом деле, потому что только сейчас понял, что не имею об этом ни малейшего представления. Что я о нем знал? Я хладнокровно задал себе вопрос: какой была бы здесь моя жизнь — и каким показался бы мне Нашвилл, — если бы Розелла не встретилась когда-то с Лоуфордом Каррингтоном, этим истинным воплощением Нашвилла? Тогда я не знал бы Марии Мак-Иннис. И Када Кадворта, объявившего себя побочным продуктом истории и ее отбросом. И миссис Джонс-Толбот, с ее лошадьми, ее идеальным итальянским произношением и ее домом, который она назвала своим аллегорическим капризом. И никого из всех, кого я знал теперь.
Не знал бы я — или, выражаясь по-библейски, не познал бы — и Розеллу Хардкасл.
Я попытался представить себе, как все могло бы быть. Я бы работал допоздна у себя в гостиничном номере или в маленькой квартире. К этому времени я бы уже заканчивал очередную статью. («О чем?» — подумал я.) Я бы водил в кино какую-нибудь аспирантку или, может быть, преподавательницу. Я бы завел себе друга на факультете. Настоящего друга, поправился я, какого у меня никогда не было. Мы бы с ним обменивались мыслями. Со временем я бы рассказал ему про свое детство. Потом, позже, — про Агнес и как она теперь лежит на кладбище в Южной Дакоте. Я начал бы проявлять интерес к своим студентам. К какому-нибудь парню с гор, который постоянно крутил бы что-нибудь в своих сильных руках, как будто хотел разорвать, и просил бы только дать ему немного времени, он обязательно все осилит, он может все что угодно выучить, дайте ему только немного времени, чтобы он мог взяться как следует, и его сильные руки при этом что-нибудь крутили бы и мяли. Или к какой-нибудь девушке с хлопковой плантации в штате Миссисипи, с некрасивым лицом и серыми мечтательными глазами, которые загорались бы радостью, когда ей удавалось бы уловить ритм стихотворной строки.
Я мог бы прожить в Нашвилле лет пять. До выхода своей следующей книги, до тех пор, пока мне не предложат лучше оплачиваемое место с меньшей учебной нагрузкой в каком-нибудь университете рангом повыше с обширной научной библиотекой, и это был бы мой следующий шаг вперед. («Откуда? И куда? — спросил я себя. — И зачем?»)
Нет, я мог бы остаться здесь, жениться на какой-нибудь профессорше или на симпатичной, чисто отмытой медсестре с медицинского факультета, завести пару детей, прочно войти в здешнее общество, иметь длинный список научных трудов, хорошее имя в своей области — пусть не выдающееся, но достаточное, чтобы считаться здесь важной фигурой, — облысеть, потолстеть и, может быть, начать выпивать чуть больше, чем следует.
Когда мои размышления дошли до этой точки, я отправился на кухню и налил себе выпить. Мне пришло в голову, что на самом деле я думал вовсе не о Нашвилле. А о чем я думал на самом деле? Я стоял со стаканом в руке у холодильника, который тихо жужжал, как иногда начинает жужжать в голове. И в его жужжании слышался вопрос: «О чем я думаю?»
И я мысленно ответил: «О самом себе».
И я сказал: «Я думаю о самом себе — каким бы я был, если бы не существовало Розеллы Хардкасл».
Но она существовала, она лежала там в белом доме за лесом, по ту сторону луга, и мне стоило больших трудов удерживаться, чтобы не выйти из кухни в темноту, не перелезть через перелаз, не пройти по лесной тропинке, чтобы стоять — как стоял я много ночей назад — в тени деревьев, глядя на дом по ту сторону луга, где лежит она.
На следующий день, около полудня, она позвонила. Торопливо, приглушенным голосом она сказала, что сейчас не может говорить. Чтобы я вышел из дома и шел через лес — нет, самым длинным путем, через глушь, а она пойдет мне навстречу, как только сможет, и чтобы я ждал ее где-нибудь на полпути.
В три часа я вступил в лес, лежавший к западу от моего дома, и отправился в долгий обходной путь. Было пасмурно, начинал моросить дождь, температура падала — очередная выходка этой паршивой запоздавшей весны. Я бесшумно шагал по мягкой земле, кутаясь в старый черный дождевик. Слышно было, как капли падают на только что распустившиеся листочки: здесь лес был лиственный. Примерно на полпути я обнаружил сбоку от тропинки нечто вроде лощины под вздыбленным, заросшим лишайниками выходом известняка; вход в лощину был почти не виден за густой порослью орешника. Я остановился и стал ждать.
Десять минут спустя из-за поворота тропинки показалась Розелла. Увидев меня, она пустилась бежать и вбежала прямо в мои объятья, не подставляя лицо для поцелуев, а прильнув ко мне, прижавшись щекой к скользкой черной резине моего дождевика и тяжело дыша. Я немного отстранил ее и распахнул дождевик — теперь она прижималась щекой к моей старой фланелевой рубашке.
Не знаю, сколько времени мы так стояли. Я слышал только ее дыхание, понемногу успокаивавшееся, и шорох от падения капель на листья. Не слышно было даже карканья ворон. В конце концов я велел ей рассказать, что происходит. Она сказала: «Нет, не сейчас, сейчас просто люби меня». Через минуту ее рука скользнула вверх и принялась расстегивать на мне рубашку (верхняя пуговица была и без этого расстегнута, а может, оторвана), и она прижалась лицом — точнее, ртом — к моей груди. Чуть повернув голову, так что рот пришелся против бугорка грудной мышцы, она прикусила его зубами почти до боли.
Ко мне домой она не пошла — сказала, что нет времени. Мы сошли с тропинки, углубились в лощину, скрытую орешником, и там, прислонив ее спиной к наклонному стволу старого бука, в холоде и спешке, под дождем, который все усиливался, я совершил все, что полагалось. Она предусмотрительно не надела ничего, что могло бы мне помешать.
Вот так — она все еще в своем плаще, хотя и с откинутым капюшоном, а я в своем черном дождевике и в черном резиновом капюшоне на голове, из-за которого волосы у меня слиплись от пота, — мы совершили это, в холоде и спешке, без всяких нежностей, и потом я сразу снова задал ей тот же вопрос: что, черт возьми, происходит?
Оказалось, что ее муж лежит больной. Уже два раза приезжал врач. Он говорит, что это похоже на панкреатит, — хотя Розелла сказала, что это чистое притворство, повод для того, чтобы преисполниться жалости к самому себе, или в лучшем случае — самовнушение. Ложиться в больницу он не желал. Ни за что — он хотел, чтобы она постоянно была рядом и без конца слушала его разглагольствования: о новых замыслах, которые, по его словам, у него появились, о том, как они переедут в Нью-Йорк или в Рим и он бросит свое дурацкое преподавание, — хотя, добавила она, он ни разу не смог собраться с духом, чтобы куда-нибудь поехать. Ни разу не смог выбраться из этой материнской утробы, которой себя окружил, — из этого проклятого сновидения наяву, в котором он мнил себя олицетворением Нашвилла и новым Леонардо да Винчи в одном лице. Но теперь он был так нежен и мягок — уж лучше бы он не изображал эту мягкость, цену которой она прекрасно знала!
В этом месте я спросил, уложила ли она чемодан, и она, помявшись, сказала, что нет, как она может это сделать в такой ситуации? После чего я спросил — какого дьявола, что за ситуация, не собирается же этот сукин сын помереть, верно? Она вдруг неожиданно, с удивившей меня злобой, заявила, что хотела бы, чтобы он умер, но тут же испугалась собственных слов и сказала — нет, нет, конечно, но я должен попытаться понять и не настаивать, чтобы все не стало еще хуже.
Так ничего и не решилось, и наш разговор закончился на земле, где прошлогодние буковые листья цвета выцветшего золота лежали толстым, хотя и мокрым, ковром, благодаря которому на спине ее габардинового плаща не должно было остаться пятен грязи, а мой дождевик, расстегнутый, но так и не снятый, раскинулся в стороны, словно крылья огромной черной летучей мыши, которая упала раненая и бьется на земле, разбрасывая в стороны опавшие листья цвета выцветшего золота, поливаемые дождем.
Эта сцена разыгралась в пятницу и, в сущности, почти без изменений повторилась на протяжении последующей недели трижды — два раза в той же маленькой лощине и один раз в моей комнате с задернутыми занавесками, потому что Розелла выдумала повод для отлучки — ей якобы нужно было срочно что-то купить. Все три встречи были краткими, потому что Лоуфорд еще лежал больной, и мы снова и снова говорили о том же самом, но эти разговоры с каждым разом становились все более напряженными. Что касается занятия любовью, то оно во время этих встреч оказывалось побочным делом — необходимым, но побочным, и — если перефразировать слова Томаса Гоббса, относящиеся к человеческой жизни, — скотским, грязным и кратким. Теперь оно было для нас обоих способом отвлечься от некоей неявной борьбы, происходившей между нами, способом бегства от нее.