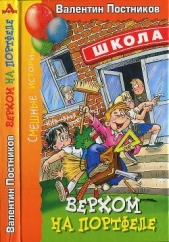Рассказы (СИ)

Рассказы (СИ) читать книгу онлайн
Писатель Дмитрий Новиков: «Все вокруг жаждут хорошего текста!»
В 20 лет он ушел с пятого курса медицинского факультета, чтобы заняться бизнесом. В 30 с небольшим на пике успешной карьеры бросил все и отправился в никуда — в писательство. К 40 годам написал три книги прозы, изданные солидными тиражами известными издательствами и стал лауреатом нескольких престижных литературных премий. В том числе — Новой Пушкинской премии, учрежденной мэтром русской литературы Андреем Битовым. Он помогает начинающим литераторам, убеждая их, что талант всегда пробьется в жизни, не любит разговоров о деньгах, хотя утверждает, что зарабатывает больше, чем когда был бизнесменом. До сих пор числится «молодым» писателем» и с иронией говорит, что «повзрослеет», когда напишет роман. Свою историю успеха «Столице на Онего» рассказал известный петрозаводский писатель Дмитрий Новиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Из–за бархана высунулась голова Конева. Увидав мое возвращение, он подбежал, помог вытащить байдарку на песок.
— Понимаешь, я не мог смотреть, как ты будешь тонуть. По–глупому, из–за ведра. Я бы ничего не смог сделать и потому ушел.
— Ладно. Неси воду, будем суп варить да спирт разводить, — я покровительственно протянул ему ведро.
Через полчаса, захмелев, уже спорили.
— Бесы — они разные. Сильные и слабые. Бесы силы и бесы слабости. Любовные бесы. Смешные даже бывают, кабиасы те же.
— Нет–нет, все проще, черное и белое, посередке — слабости, — яростно горячился уже Конев.
А на меня вдруг нахлынула усталость.
— Ну ладно, — сказал я и полез в палатку. Сквозь сон слышал, что Конев продолжает с кем–то спорить.
Утро выдалось тревожным. Всю ночь сивер долбил берег волнами, рождая глухой, низкий ропот. Солнца не было. Конева в палатке тоже. Я вылез наружу — он сидел на вершине кучи песка, лицом к морю. Давно я не видел его таким серьезным. Обычно он ерничает, шутит, старается смешить.
— Слушай, я начал понимать, — он выглядел даже немного испуганным.
— Что понимать? — вчерашний вечерний хмель не способствовал философии с утра.
— Да ты говорил про Север, про поморов, про битвы эти. И это небо, море, ветер… Я стал понимать, что все серьезно.
— А то! — настроение мое улучшилось. Я сам скептик, но есть вещи, которые истинны. Закат скептицизма — зрелище приятное.
Тогда и случилось. Порыскав по округе, Конев не обнаружил свой фотоаппарат. Он долго до того искал его в Интернете, обсуждая с многочисленными и заядлыми знатоками достоинства и недостатки. Конев с фотоаппаратом был сам себе художник — без промыслов владел всем. Поэтому без него выглядел неважным. Потерял, говорит, камеру свою. Жить теперь не могу. Потому иди, мол, ищи, спасай, друг — друга. Чуть не плачет, бедный. Сначала на песке сидел горестно. Потом встал, помял опухшее ото сна лицо и увидел на горизонте семь непростых фигур. Шли они далеко, гуськом, маленькие были, еле видимые. Но как–то напористо шли, с неприятной целеустремленностью. Словно за продовольственной разверсткой отряд. Будто на истребление собак специальная команда душителей. Как–то неуютно душе становилось при взгляде на их приближение. Как–то зябко. Еще и ветер этот постоянный.
Тут Конев и возбудился сильно.
— Это бесы, — говорит, — кабиасы. Точно знаю. Это они мою камеру взяли.
Фигурки приближались, становились видны в мелких деталях. У передней горгоньим сплетением развевались на ветру длинные волосы. У последней — торчали на голове небольшие, но рога. Идущие между ними были каждая по своему неприятна. Не знаю, как у Конева, у меня же возникли разные предчувствия, большей частью тревожные. Но виду не подаю, стою спокойно. Здесь как–то всегда так — тревожно, но мирно.
А Конев раздухарился, от страху ли, с алкоголя вчерашнего, в крови дображивающего. А может, утрата любимой вещи его на душевное величие подвигла. Только встал он твердо на родную землю, уперся в нее ногами, грудь выпятил да плечи широко расправил.
А потом царственным жестом, как Калигула какой гладиаторам своим, широко рукой указал:
— Иди и отбери у них мой фотоаппарат!
Тут я огорчился. Не люблю, когда мне снаружи указывают. Хоть кто, будь ты сам Владимир Черно Горюшко. Да даже и Конев.
— Иди сам, — говорю, — Конев, и отбери, коли уверен. А я сомневаюсь, что они взяли. На Севере так не принято.
— Так бесы же, бесы! — загорячился Конев. — Я чувствую.
— Ничего ты не понял. Здешние бесы внутри у каждого, по большей части. Наружу редко показываются. Робкие они.
Ну ладно, я к людям биться не пошел за правое дело, а Конев сам идти забоялся.
А те, когда подошли, оказались польским туристами. Почему польскими, чего здесь забыли — неясно. Только никакие не бесы. Который первый шел, с длинными волосами, — вообще детский врач из Белоруссии, проводник их по России. У последнего же просто шапка охотничья на голове была, с ушами стоячими. Встали они неподалеку от нас, разложили снедь на обломках корабля старого. Бутылку достали. Когда я познакомиться подошел, сразу стакан мне налили, испуганно как–то. А то не испугаться: я большой, да борода уже за несколько дней выросла. Да Север опять же в чужой незнакомой стране. В России, где все опасно, где сам воздух несет в себе весть о смерти. И о жизни тоже. Думаю, если бы я по наущению Конева фотоаппарат у них спросил — свой бы отдали с радостью. И потом молились бы, что так легко отделались от опасных русских мужиков.
От водки я отказался, она на спирт плохо ложится. Поговорил с поляками о том, о сем, о жизни, о рыбалке немного да и пошел восвояси к Коневу. И такой за спиной вздох радости и облегчения услышал, что улыбнулся невольно. Приятно иногда быть страшным для окружающих, без всяких к тому усилий.
— Ну чего, Конь, плохо ты о людях думаешь. Не брали они твоей камеры. И близко не видели.
— Они врут, я знаю, они бесы, — слегка Конев застрял на северной тематике. Так бывает. Внимания обычно на это не обращаешь, потом само проходит.
— Я знаю… — продолжал долдонить Конев.
Тут Ленка Заборщикова и позвонила:
— Не вы вчера фотоаппарат потеряли? А то наша молодежь нашла в песке. Приезжайте, коли так.
И тут вспомнилось. Мы же вчера еще в Кузомень ездили. Жалко ведь столько проехать и не половить. Задергался я, потому что забыл внезапно, где живу, утратил чувство локтя. Потому что не было лицензий, а потом вдруг появились. У тех же девчонок, что неприступно в домиках колхозных по торговле этими бумажками сидели. Вчера — не было, сегодня — есть. Да и не за деньги, не за взятки — ласковое слово, шоколадка да улыбка пристальная, благожелательная. Красивые поморочки по деревенским улицам ходят, морок на тебя наводят, тень на плетень.
Сорвались мы с Коневым вчера под самый вечер. Уже выпившие крепко были, но в машину сели, и ну по пустыне колесить. Благо внедорожная у меня, песка не чуяла. И такое счастье беспредельное вдруг охватило — ни преграды, ни засады впереди. Лишь ровный бескрайний песок повсюду да безграничное море вдалеке. Да небо над тобой, где Бог — твой единственный судья. Да земля родная, северная, которую любишь за невзрачность, неброскость, за силу ее и страдания. И воля в душе, неограниченность рамками — ты сам себе человек, и совесть в твоем нутре не даст тебе сорваться на злое. А весело, пьяно, разгульно за рулем, по пустыне, кругами и зигзагами, вдоль и поперек, и смех, наружу рвущийся, и крепость пальцев, в руль вцепившихся, и мотор, взревывающий весело на очередном бархане, и веером песок из–под колес — то–то счастье доброе! И вечно мрачный Конев тоже хохотал и наслаждался, видимо. И снимал, фотографировал, любил все вокруг. И чайки участвовали в нашем веселье, порывисто сигая с высоты и вновь взмывая вверх. Не было предела свободному веселью. Лишь сон сморил задолго заполночь. А утром мы искали фотоаппарат.
Ну ладно, делать нечего. И хоть стыдно за вчерашний разгул, но не очень. Поедем с молодежью общаться с местной. Заодно и на Ленку Заборщикову еще раз посмотрим, на красивую и добрую. Чего–то двух дней не прошло, как на природе, а всякая женщина красивой кажется. Или не кажется, или на самом деле здесь все так? Или бесы крутят, или промысел Божий. Все близко, все рядом, и душа потому слабая и крепкая здесь, одновременно, так тоже бывает. Очищается потому что мгновенно, а в чистоте и сила, и слабость. Правильность. Не ходите, дети, в Африку гулять. Езжайте лучше на русский Север!
Другой день — не то, что прежний. Куда как вольно было вчера веселиться. Сегодня по–другому все. Небо опять низкое, не волю обещает — гнетет унылой совестью. Из низких туч бусь летит, мелкая, как мошкара, пронзительная, как недобрый взгляд. Сильный ветер несет ее параллельно земле, и спрятаться невозможно, промокаешь сверху, снизу, со всех сторон. Недаром и цвет туч — бусый, такой же неприятный, сырой, сомнительный. Сопутствуя буси и тучам, ее несущим, едем мы с Коневым, едем прочь от моря, надышавшиеся соленого вольного ветра. Едем на встречу с молодежью, спасать коньский фотоаппарат. Ведро свое я спасал один, потому решаю в переговорах не участвовать. Пусть Конь сам выкручивается пробкой из тугих молодежных объятий. В том, что они будут тугими, я ни минуты не сомневаюсь: нашей молодежи если попало что в цепкие руки — вырвешь с трудом. Конев тоже это знает, а потому сидит понуро, готовится. Потому что нужно очень грамотно провести переговоры, пережмешь чуть — можешь и в морду за свой же фотоаппарат получить. Конев умный, он догадывается, что помогать разговаривать я ему не буду. Хотя если в морду — то я, конечно, с ним. Куда ж его бросишь, худощавого. А разговаривать — нет, не хочу. Буду лучше Ленкой Заборщиковой любоваться. Мою первую жену тоже Ленка звали. Так остро у нас все начиналось. Так же остро и закончилось. Много лет уже прошло, а душа до сих пор болит. И дочка старшая — мой на всю жизнь укор, умница–красавица. Я раньше выл порой, когда напивался, и скучал сильно. А теперь ничего, держусь. Только молитву свою повторю, вроде и легче. Она простая, из двух слов всего. «Ну ладно», — так говорю.