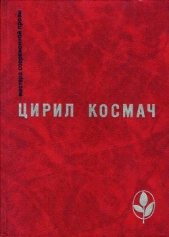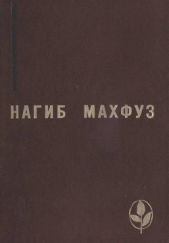Избранное
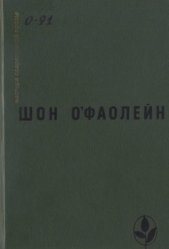
Избранное читать книгу онлайн
В том вошел лучший роман крупнейшего ирландского прозаика, романиста и новеллиста с мировым именем «И вновь?», трактующий морально-философские проблемы человеческого бытия, а также наиболее значительные рассказы разных лет — яркие, подчас юмористические картинки быта и нравов ирландского общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ну, нет! — решил я, оглядывая его строгий кабинет и отдыхая глазом на двух телефонах, телетайпе, диктофоне и настенных геологических картах. Неужели опять? Неужели все то же? Тут что-то не так. Все эти лоскуты и отбросы былого, подлинные и поддельные, могли еще представлять какой-то интерес для его деда, Старика Стивена. А к его отлаженной, как машина, жизни они имели не больше отношения, чем ветхая, в подтеках, аккумуляторная батарея, которая пылится в углу гаража. Но тогда зачем он поливает их пьяными слюнями? И причем тут я?
Он захлопнул свой мемориальный альбом и умоляюще посмотрел на меня.
— Отчего мою семью не волнуют эти бесценные вещи? Ты можешь себе представить: моя собственная дочь чуть не хохочет, на них глядя?
Я мог себе представить. Она несколько раз очень издевательски отзывалась о его «старом хламе». Я понимал и больше — что один брезгливый жест его возлюбленной, обожаемой, балованной и нежно чтимой дочери — сколько раз я видел, как они ласкались друг к другу: она из него веревки вила, — мог вдребезги разнести все его жизненные достоверности. Может быть, хлопнув вот так альбомом, он пытался подменить ужас утраты праведным гневом на отступничество от касты и клана? Я молчал.
— Ты молодой ирландец. Потомок фениев-повстанцев. Ты можешь понять, как свято надо хранить традиции. Можешь ты мне объяснить, отчего моя семья этого не понимает?
Я опять-таки мог и опять-таки не собирался. Сказать ему, что их тошнит от его реликвий? Что они не верят в его благоговение? Что, будь его предки поляками, итальянцами, немцами, греками, пуэрториканцами, неграми, англичанами, евреями (даже евреями!), скандинавами, китайцами, было бы то же самое? Подумав так, я бешено обозлился на него, не потому, что он этого отчетливо не понимал из-за простительной всякому сентиментальности, а потому, что он это понимал вполне отчетливо. В нем угадывался один из самых омерзительных американских типов, живоглот-приобретатель, готовый пустить в дело любые человеческие чувства — была бы польза. У таких людей, переиначивая слова из пьесы Йейтса, «мечтанья усыпляют совесть». А может быть, я тоже хитрю сам с собой, сваливаю на него вину за неудачный роман с Крис: он, мол, еще до того, как мы с нею встретились, развратил ее своим двоедушием? Скорее же всего, он — просто еще одно олицетворение Стальной Воли, еще один Железный Человек, рыдающий по ночам на груди жены или любовницы, изнуренный каждодневной глухой борьбой с каким-то внутренним изъяном, постыдной слабостью, которую и сам предпочитает не вполне сознавать, а если сознает, то все же слезно скрывает ее от единственной надежной наперсницы.
Я заметил, что мы неприязненно смотрим друг на друга.
— Ну? — потребовал он. — Ты на мой вопрос не ответил.
Я медлил. Чего в нем больше — корысти? Искренности? Человек неоднороден: он и такой, и сякой — вообще многоразличный.
— А? Да, конечно! Вы про традицию? Да! Да! В каком-то смысле вся цивилизация зависит от нее, пока она неподдельна. Но нет сомнений, что на практике в ней смешиваются, сплавляются правда и ложь, они порой так же неразличимы, как рисунок на древней монете, затертой бесчисленными костлявыми руками. И то сказать, дядя Боб, ведь воспоминания тускнеют. Один рассвет затмевает другой. Все забывается. В конце концов даже традиция себя изживает.
Глаза его стали щелками на застывшем, убийственно мрачном лице.
— Любопытно! — тихо сказал он. — Буквально эти же самые слова о прошлом сказал мне твой отец 13 ноября 1990 года, за обедом у меня в номере дублинской гостиницы «Шелбурн».
Еще бы мне этого не помнить! Как раз после этого обеда я прямо в такси, по дороге на Эйлсбери-роуд, предложил Нане стать моей женой.
— Незадолго до моего рождения, — улыбнулся я, с новым раздражением припоминая, как двадцать лет назад он разводил болтовню с подвохом про ах какую героическую юность моего брата Старика Стивена, и слово «прошлое» вдруг стало мне отвратно — не потому, что оно так часто отдает фальшью, у него-то оно заведомо было насквозь фальшивое, — а по причине, которую я с изумлением обнаружил позднее: этим словом оскорбляли достоинство моей страны. Слишком уж много попадалось мне эдаких нахрапистых патриотов в дублинских кабачках, где они, до капли выдоив свое (?) Славное Прошлое, в мгновение ока от этого прошлого отшучивались как ни в чем не бывало: показывали, что стоят на земле обеими ногами. Овцы, разбредшиеся из загона рухнувшей империи, полулюди, навеки меченные клеймом имперского овцевода на крупах. А тут нате вам, такой же патриот американского образца, правдами и неправдами загоняющий свою семью в хлев другой империи. Знай я тогда Кристабел, как знаю сейчас, я бы понял, что он взрастил свое подобие. На миг я всей душой неистово взмолился к небесам: ну что бы мне родиться в стране, на которую совсем или почти совсем не давит память, — скажем, на необжитых пустотах Западной Австралии, песчаные равнины которой, как говорил мне один австралийский журналист, — те же пустыни Сахары: Большая Песчаная, Гибсон, Виктория, безлюдное раздолье вдвое побольше Техаса, плоские голые степи, где картограф радуется пересохшему соленому озерцу. Как привольно жилось бы мне там! Я бы ездил к платформе одноколейки, у которой два раза в месяц останавливается состав, именуемый «Чай да Сахар»: несколько цистерн питьевой воды, вагон мясопродуктов, вагон розничных товаров, бакалейный вагон, вагон скобяных изделий. Останавливаются, откидывают железные приступки и не поднимают их, пока последний покупатель не отъедет без спешки к своему дальнему оазису; тогда и поезд не спеша откатывается к невообразимо далекому горизонту. Как хорошо быть одиноким, заброшенным, выпавшим из времени Робинзоном Крузо! Но даже и там, наверно, нашелся бы какой-нибудь старикан, скопитель мусора дней былых. «Я еще хорошо помню — хе-хе! — последнюю керосиновую лампу — хе-хе! — в наших местах! Ну и вонищи от них было — аж сейчас тошнит». Или похлопывая по чугунному обломку водяного насоса, с грустной хитрецой приговаривая: «Э-эх! Э-эх!» Как далеко заходит в прошлое память старейшего обитателя? На поколение? Многовато [63]!
Я смотрел, как хозяин дома угрюмо прибирает свой самодельный шаманский набор, раздув нижнюю губу, будто пузырь жвачки; брови его топорщились, как черные густые усы. Его драгоценный (?) жетон «ИВ» улегся в коробочке на бархате. Он увернул в зеленый шелк наконечник пики якобы 1798 года и немного помедлил над револьвером, из которого якобы стрелял в 1916 году Патрик Пирс. Похлопывая по нему, он вызывающе взглянул на меня. (Я, кстати, точно знаю, что Пирсу во время Восстания стрелять не случилось. Он расхаживал со шпагой, на радость Йейтсу. Убивать было не его дело. Ему надлежало произносить речи, быть убитым и стать мучеником, каковую роль в Героической Ирландской человеческой комедии он сыграл вполне достойно.)
Я услышал шум за окнами. Он прекратил прибираться и сказал:
— Крис милостиво соизволит почтить нас нынче вечером своим присутствием. Мать поехала в аэропорт встречать ее. Кроме того, я ожидаю одну мою старинную английскую знакомую, некую мисс Пойнсетт. Они, кажется, приехали раньше, чем предполагалось.
Итак, он все знал? Железный Человек? Или Соломенное Чучело? Сейчас выяснится. Хлопнула дверца машины. В холле зазвучали женские голоса — все ближе, за самой дверью. Дверь приоткрылась: показался кусок лба и неуверенный темный глаз Леоноры. Вошла она почти робко и ввела очень высокую, прямую, сухопарую и седовласую даму, всю в черном, вплоть до потертых митенок и викторианских гагатовых серег. За ними следовала Крис, светлоглазая, завитая, с накрашенными ресницами, в зеленой косынке горошком и зеленых брюках. Глаза ее проворно, словно ящерки, перебежали с отцовского лица на мое. Ее поднятые брови вопрошали. Мои, насупленные, отвечали. Она упрямо выпятила губу. Все дальнейшее было как пулеметная очередь.
— Роберт Бернард Янгер, младший. — Заткнув за пояс большой палец левой руки, правой он сделал жест от меня к пожилой даме. — Мисс Эми Пойнсетт.