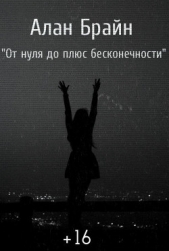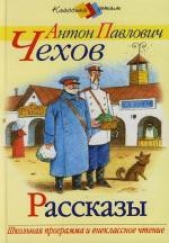Пилюли счастья

Пилюли счастья читать книгу онлайн
Книга основана на реальных фактах и подлинных письмах и дневниках. Героиня книги, Нина Сюннангорд, жена издателя из маленького шведского городка и мать троих маленьких сыновей, появилась на свет в городе Ленинграде — за несколько месяцев до Великой войны, а, стало быть, и до Великой блокады. И звали ее тогда Нина Тихвина. Уехав из России, она, казалось бы, обретает другую жизнь. В нынешней благополучной и тихой жизни ее не оставляют воспоминания о детстве в послевоенной перенаселенной питерской коммуналке. Молодость смешлива, самонадеянна и беспечна! До чего же весело было ей ходить в студенческие походы и не замечать, что по пути туристических маршрутов, в двух шагах от них, гниют в белорусских болотах кости ее расстрелянных бабушки и дедушки, двоюродных сестричек и братиков… Потом в ее жизни была пустыня Негев в Израиле — в России, сравнивает Нина, в лучшем случае потянула бы на засушливую степь. Где-то там — ее взрослый сын, свидетель ее прежней жизни. Действие романа переносится из Европы — в Израиль — и в Санкт-Петербург. Дух гениев, живших и творивших в Петербурге, властвует здесь поныне, но. как ни старался Достоевский живописать неизбежность унижения и оскорбления, люди не желают в это верить. Человеку нужна надежда… Но где же эти ПИЛЮЛИ СЧАСТЬЯ, которые позволят забыть о том, что мерещится во мраке зимнего дня, в мороке сумеречного сознания?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– А, Нина!.. – наталкивается на меня фру Брандберг. – Скажите: у вас осталась в России семья?
Мы с ней встречаемся регулярно на протяжении всего года – то в магазине, то в издательстве, иногда даже у нас дома, сегодня утром, например, виделись на катке, – но почему-то только в этом рождественском собрании она удосуживается поинтересоваться моей семьей. Между бокалом легкого белого вина и порцией заливной рыбы в ней вдруг пробуждается интерес к моей покинутой родине.
– Как – вообще никого-никого?! – ужасается она в десятый раз. – Что вы говорите!..
Паулина между тем обходит гостей – нечто вроде подписного листа: сбор пожертвований на преследуемых русских интеллектуалов. Нет, денег она, разумеется, ни с кого не берет, это лишь подготовительная стадия, эдакий невинный психологический захват – на званом вечере, да еще в стремлении поскорее от нее отделаться, человек не удержится и что-нибудь пообещает. А потом уж неловко отступать – придется раскошелиться на дурацких неуемных русских.
Не могу сказать, чтобы мы как-то особенно близко сошлись за эти десять лет, но некое взаимное участие, что ли, заставляет нас общаться. Обычно я забегаю к ней в библиотеку – заодно можно разжиться какой-нибудь книжкой или порыться в каталогах новых изданий. Живет Паулина далеко, на противоположном конце города – между прочим, когда я впервые попала туда, квартира поразила меня своей величавой добротностью. Я не решилась спросить: это что же, социальные службы в этой стране предоставляют бедным вдовам с младенцами такие апартаменты? Не может быть, чтобы скромная библиотекарша могла позволить себе приобрести или снимать столь роскошное жилье.
Теперь, по вселении Пятиведерникова, я стараюсь бывать у нее пореже, но мы по-прежнему общаемся в библиотеке. Пятиведерников явился неизбежным производным от христианского милосердия и трепетной поддержки русских диссидентов. Рано или поздно в ее жизни должен был возникнуть тот или иной Пятиведерников – одинокая и к тому же беспредельно наивная женщина обязана была пасть жертвой своих добродетелей. У меня есть Мартин, наши мальчики, Денис, Люба, даже
Эндрю, – а у Паулины на всем белом свете нет никого.
Не знаю, обращали ли когда-нибудь критики и ценители великого писателя внимание на то, что Варвара Алексеевна Доброселова снабжена хоть и покойными, но все же родителями: бедной матушкой и шлимазлом батюшкой, – подлой и коварной, но все же родственной Анной
Федоровной. Что же до Макара Алексеевича Девушкина, то тот так и соткался из тлетворного петербургского воздуха, никогда не имевши не только плотских родителей, но даже и захудалого какого-нибудь дядюшки.
Пятиведерников сел в семнадцать лет за убийство. Что это было за убийство, я не знаю и не интересуюсь, но скорее всего, не старухи-процентщицы. Очутившись же в лагере, он по некоторому наитию или влечению натуры (но, может, отчасти и по расчету) сошелся не с братьями-уголовниками, а с диссидентами и полностью включился в их лагерную борьбу за предоставление свиданий и прочие нарушаемые властями права. В тридцать два года он кончил срок – без профессии, без высшего и, кажется, даже без законченного среднего образования, зато с четко сформировавшимся мировоззрением, которое побудило его не удовольствоваться относительной свободой “большой зоны”, а взыскать полного раскрепощения. Он покинул пределы СССР по израильской визе и очутился в транзитном пункте под Римом. Ни одна свободная страна не пожелала видеть понесшего наказание убийцу своим гражданином. Оставшись без всяких средств к существованию, без опеки каких-либо благотворительных организаций и без малейшей надежды на перемены к лучшему, он готов был ехать даже в малопривлекательный
Израиль, но и Израиль вывернулся у него из-под ног, объявив, что виза его просрочена, а поскольку евреем он не является, то и под действие закона о возвращении не подпадает.
“Не понимаю, – писал он друзьям в Иерусалим, – у вас там какие-то блажные кибуцники запускают праздношатающихся приезжих к себе в столовую и потчуют среди ночи курами? Только потому, что те изволили заблудиться? Милая детская мечта! Я тут совершенно непредумышленно пересек угол чьего-то поместья (не огороженного к тому же!), так на меня спустили собак и едва не пристрелили для острастки. Красиво эти итальяшки выглядят только в кино, но кино, как вы, верно, догадываетесь, я не посещаю. Следующей зимы мне не пережить – прошлую провел в основном под мостом – ничейный гражданин, коему не положено от просвещенного человечества даже таблетки аспирина.
Перенес воспаление легких, а почему не сдох, не знаю”.
Письмо было размножено, разослано с припиской “SOS!” по всем возможным адресам (подозреваю, что не столько само бедственное положение Пятиведерникова ужаснуло эмигрантскую общественность, сколько мысль о позорном разоблачении преимуществ избранного ими западного образа жизни). Неисповедимыми, но тонко продуманными путями попало оно в руки невиннейшей Паулины. Испытав все прочие способы спасения гибнущего в Италии русского диссидента и убедившись в преступной государственной косности и людской черствости, она решилась на крайнее, зато верное средство – поехала в Рим и обвенчалась с Пятиведерниковым по православному обряду.
Бросив таким образом вызов бессердечному миру, она на вполне уже законном основании ввезла молодого мужа в страну и поселила у себя в квартире.
Не думаю, чтобы тридцатичетырехлетняя Паулина питала какие-то тайные надежды – благочестивая стыдливость давно заставила ее смириться со своей участью старой девы. Мечтать, что спасенный проникнется к спасительнице нежными чувствами, она бы не посмела. Но, без сомнения, в бедной своей отверженной душе она выстроила сладостную модель дружеского совместного подвига, общей плодотворной борьбы и интеллектуального взаимопонимания. Предполагалось, что
Пятиведерников станет ближайшим соратником и единомышленником. Он же стал единственно тем, чем мог и должен был стать: тяжким ее крестом.
После всего пережитого он и помыслить не мог о какой-то полезной деятельности. Утомленный и разбитый всей своей предыдущей жизнью, успевший в лагере смертно возненавидеть советскую власть, а в Риме не менее яро – зловонную западную демократию, он жаждал только одного – отдохновения, полного и никем не нарушаемого покоя! “Приди, о Лень! приди в мою пустыню…”
Я побывала у Паулины после ее замужества (фиктивного, разумеется).
Пятиведерников в полуодетом и каком-то немыто-нечесаном виде валялся в гостиной на диване, а вокруг по всей комнате в разбросанном состоянии пребывали его же носки, бумаги, все виды печатной продукции: книги, брошюры, газеты (которые Паулина специально выписывала из Москвы и Парижа), вывернутые наизнанку штанины и грязные тарелки. Мое вторжение в уже обжитой им мирок он воспринял хмуро, позы не переменил, а на предложение жены познакомиться буркнул себе под нос нечто не вполне разборчивое и, кажется, даже не вполне приличное. Но когда я уходила, вдруг вскочил, прошлепал по паркету босыми ногами и протянул мне руку. Я пожала ее, но постаралась намекнуть ему, что я не Паулина. Он криво усмехнулся и плюхнулся обратно на диван.
Временами моя приятельница не выдерживает и со слезами на глазах жалуется (кому, кроме меня, она может пожаловаться?), что
Пятиведерников совершенно изгадил и изуродовал ее жизнь, что он не просто бездельник, но злостный гнусный паразит и кровопийца, что он не моется, не соблюдает элементарных приличий, требует от нее денег и в нетрезвом состоянии угрожает вышибить из нее мозги. Развод в этой стране – дело чрезвычайно сложное и дорогостоящее, а кроме того, Пятиведерников выведал, что фиктивный брак уголовно наказуем, и шантажирует свою непорочную супругу угрозой разоблачения.
– Вы не представляете, какие слова я от него слышу! – шепчет
Паулина, бледнея от стыда, и грустно качает преждевременно седеющей головой.
Чем я могу помочь ей?..
– Не уходите еще? – интересуется Агнес, отряхивая с губ крошки песочного пирожного, чем предумышленно усугубляет торопливо-пренебрежительный тон. – Что ж… Мы пошли. Ничего такого, чтобы стоило… Не могу представить, как люди часами оставляют детей с бебиситером! Я никогда ни минуты не бываю спокойна. Ах да, мы, кажется, завтра у вас обедаем?