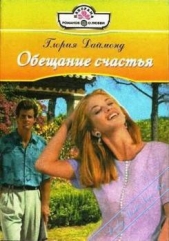Нет желаний - нет счастья
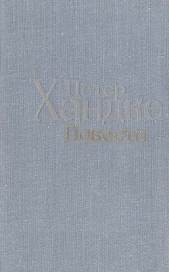
Нет желаний - нет счастья читать книгу онлайн
В книгу известного австрийского писателя входят повести, написанные в 70-е годы. Все они объединены одной мыслью автора: человек не может жить без сколько-нибудь значимой цели; бессмысленное, бездуховное существование противно человеческой природе; сознание, замкнутое в кругу монотонных бытовых действий, не позволяет человеку осмыслить большой мир и найти свое место среди людей; он оказывается одинок в равнодушном обществе "всеобщего благоденствия".
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Многие женщины в их деревне тайком выпивали; их толстые губы, которые они вечно кривили, были ей отвратительны: так никому ничего не докажешь. Она бывала иной раз самое большее навеселе и тогда пила с кем-нибудь на брудершафт. Поэтому-то она скоро была уже на «ты» с молодёжью из уважаемых семей. В обществе, которое складывается из немногих зажиточных даже в такой деревне, её охотно принимали. Однажды на маскараде она выиграла первый приз за костюм римлянки. По крайней мере в развлечениях сельское общество прикидывалось бесклассовым — разумеется, если ты был ХОРОШО ОДЕТ, УМЕЛ ВЕСЕЛИТЬСЯ и ПОДДЕРЖИВАТЬ КОМПАНИЮ.
Дома она была «мать», муж тоже называл её чаще так, чем по имени. Она не возражала, это слово точнее определяло её отношение к мужу; он никогда не был для неё тем, кого называют «любимым».
Теперь пришла её очередь копить. Она, правда, не откладывала оставшиеся деньги, как её отец, а выгадывала, ограничивала свои потребности до такой степени, что они скоро уже казались ПРИХОТЯМИ, и потому она ограничивала их ещё больше.
Но даже в такой скудной жизни она утешалась тем, что по крайней мере копировала схему буржуазного образа жизни, всё ещё сохраняла, как ни смешно, деление благ на необходимые, полезные и роскошь.
Необходимой была только еда; полезными — дрова на зиму; всё остальное было роскошью.
А если на это немного оставалось, так хоть раз в неделю можно было с гордостью сказать: «Нам живётся всё-таки лучше, чем многим другим».
Мать позволяла себе следующую роскошь: билет в кино, в девятый ряд, а после фильма — стакан вина с содовой; плитку шоколада за один-два шиллинга, чтобы угостить детей на следующее утро; раз в год бутылку самодельного яичного ликёра; иногда зимой по воскресеньям можно было полакомиться сбитыми сливками; сливки собирали целую неделю, ставя горшочек с молоком на ночь, между оконными рамами. Какой это был праздник — написал бы я, если бы это была история моей жизни; но та жизнь была лишь рабским подражанием недостижимого образа жизни, детская игра в земной рай.
А вот Рождество: то, что и без того необходимо, преподносилось как подарок. Друг другу делали сюрпризы из самых необходимых вещей — белья, чулок, носовых платков, — и при этом все уверяли друг друга, что именно, это они и ЖЕЛАЛИ получить в подарок! Вот так почти во всём, кроме еды, они притворялись, будто получали подарки; я, например, был искрение благодарен за самые необходимые школьные принадлежности и клал их рядом со своей кроватью, словно настоящие подарки.
Интимная жизнь, строго регламентированная усердно высчитанными для мужа днями после месячных; а он с жадностью ухватывал полчасика тут и там; страх перед простоями из-за дождя, когда муж, болтая, сидел рядом с ней в каморке или обиженно глядел в окно.
Зимой они получали пособие по безработице, которое полагалось рабочим-строителям, муж его пропивал. Мать бегала из одной пивной в другую, разыскивая его, и он злорадно показывал ей остатки денег. Он её частенько колотил, она старалась увернуться; теперь она с ним больше не разговаривала и тем самым отталкивала детей, которые пугались тишины и жались к отцу, сознающему свою вину. Ведьма! За её непримиримость дети поглядывали на неё враждебно. От страха у них колотилось во сне сердце, когда родители уходили из дому, но они забивались под одеяло, когда под утро отец тумаками заталкивал жену в комнату. Она то и дело останавливалась, а шагнёт шаг, и отец тут же толкает её, оба злобно молчат, пока она наконец не разражается бранью, оказывая ему тем самым услугу. «Ах ты скотина! Ах, скотина!», тут-то он начинал её колотить, она же после каждого тумака отпускала по его адресу колкость.
Обычно они едва смотрели друг на друга, но в эти минуты нескрываемой вражды они в упор смотрели в глаза друг другу, она сверху вниз, он снизу вверх. Дети под одеялом слышали только возню и хриплое дыхание да иной раз звяканье посуды в буфете. Утром они сами готовили себе завтрак: муж без сил лежал в постели, а жена рядом с ним, закрыв глаза, притворялась спящей. (Несомненно, подобное изображение ситуации кажется откуда-то списанным, взятым из другого рассказа, легко заменимым; старая песня, никак не связанная со временем, когда разыгрываются события, короче, «XIX век»; но мне представляется это необходимым, ибо описываемые мною события вполне можно спутать с другими, из того времени, — такими они были однообразными, короче XIX век, они и до сих пор были такими, во всяком случае, в этих местах и при описанных мною экономических условиях. И сегодня ещё всё та же старая песня: на чёрной доске в общинном совете висят почти исключительно приказы о лишении лицензий на содержание трактиров.)
Она не сбежала. Она поняла, где её место. «Я только жду, когда вырастут дети». Третий аборт, и на этот раз сильное кровотечение. Незадолго до своего сорокалетия она ещё раз забеременела: Аборт больше делать было нельзя, и она выносила ребёнка.
Слово «бедность» было красивым, по-своему благородным словом. С ним возникали представления, знакомые по старым учебникам: бедный, но чистый. Чистота открывала беднякам доступ в общество. Социальный прогресс достигался воспитанием чистоплотности; как только нищие привыкали к чистоте, слово «бедность» становилось почётным. Нищета для тех, кого она касалась, означала теперь только грязь чуждых обществу элементов где-то в другой стране.
«Окно — визитная карточка жильца».
И неимущие послушно тратили средства, прогрессивно предназначенные для их оздоровления, на содержание в чистоте своих жилищ.
Будучи нищими, они оскорбляли общественность отталкивающими и именно поэтому конкретными картинами, но жизнь оздоровлённого, сверкающего чистотой «бедного слоя» обретала некую абстрактность, и поэтому её можно было забыть. Нищету описывали как нечто конкретное, бедность представала лишь в символах.
И конкретные описания нищеты сосредоточивались только на физически омерзительных проявлениях нищеты, смакование всех этих описаний намеренно провоцировало отвращение, и поэтому отвращение вместо того, чтобы побуждать к деятельности, напоминало людям собственный анальный период, когда их так и тянуло лизнуть собственное дерьмо.
К примеру, в некоторых семьях единственную миску использовали иной раз ночью как судно, а на следующий день месили в ней тесто. Наверняка миску перед тем мыли кипятком, и, собственно говоря, ничего особенного в этом не было, но описание этой процедуры вызывало отвращение: «Они отправляют естественные потребности в тот самый горшок, из которого потом едят». «Брр!» Слова скорее порождают подобное пассивно-притягательное отвращение, чем вид обозначаемых ими предметов. (Собственное воспоминание: всякий раз сталкиваясь с литературным описанием пятен от яичного желтка на халатах, я вздрагивал.) Поэтому-то я испытываю такую досаду, когда сталкиваюсь с описанием бедности: ведь в чистой, но неизменно нищенской бедности нет ничего достойного описания.
При слове «бедность» я всегда думаю: да, было когда-то; его слышишь большей частью от лиц, преодолевших бедность, как слово из детства: не «я был беден», но «я вырос в бедной семье» (Морис Шевалье): изящно-забавный условный знак мемуаров. Но, вспоминая условия жизни матери, я не способен на подобные уловки памяти. Она с самого начала была вынуждена в любых ситуациях соблюдать форму: уже в школе деревенским детям преподавали предмет, который учителя считали главным в обучении девочек, и назывался он «внешний вид письменных работ»; впоследствии предмет этот перерастал в другой — женщин обучали поддерживать внешние формы семенной жизни; совсем не весёлая бедность, но совершенная по форме нищета; ежедневно возобновлявшиеся усилия, дабы сохранить своё лицо, но тем самым оно теряло одухотворённость.
Быть может, если бы люди, живя в нищете, не соблюдающей внешних форм, чувствовали себя уверенней, они обретали бы хоть какое-то пролетарское сознание. Но в той местности не было пролетариев, не было даже люмпенов, разве что бедняки из богадельни; никого не было, кто бы дерзнул; впавшие в крайнюю бедность испытывали только стыд; бедность в самом деле была позором.