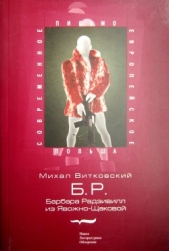Любиево

Любиево читать книгу онлайн
Михал Витковский (р. 1975) — польский прозаик, литературный критик, аспирант Вроцлавского университета.
Герои «Любиева» — в основном геи-маргиналы, представители тех кругов, где сексуальная инаковость сплетается с вульгарным пороком, а то и с криминалом, любовь — с насилием, радость секса — с безнадежностью повседневности. Их рассказы складываются в своеобразный геевский Декамерон, показывающий сливки социального дна в переломный момент жизни общества.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этим пареньком был я.
Я, путавший тогда артистичность натуры с курением, путавший жизнь богемы с пьянкой, путавший писательство с распутством, с осенью, со всем на свете. Шел восемьдесят восьмой год. Кофейный экспресс несся на всех парах, в ушах у меня звучали какие-то меланхолические мелодии, на дворе стояла осень, пахло горелой листвой, первые морозы — неблагоприятное время для мальчиков, в которых только проклевывается вкус к жизни. После нескольких рюмок коньяка мне сделалось нехорошо, меня вытошнило в писсуар коричневым: слишком сладким кофе и коньяком. Кто-то вошел за мной, сказал манерным голосом, имитируя испуг: «О, Боже, эта молодая ща все заблюет»… Мне было пятнадцать. А усатому мужику с сумкой — около тридцати. О чем думал я, заслушавшийся ворчаньем экспресса в тот промозглый от сырости серый день, когда прогуливал школу и на полученные от мамы деньги покупал кофе и коньяк? Он мне сказал, что, если я еще в силах, мы можем пойти в туалет на вокзале. А там, если дать смотрительнице сто тысяч, можно сидеть вдвоем в кабинке сколько захочешь. Что у этой смотрительницы есть специальная кабинка с табличкой «засор» и что он ее арендует. На улице было страшно холодно. Меня трясло, ноги сделались как ватные. От моих пальцев пахло сигаретами, засохшей блевотиной, нервным потом и духами. В кабинке уже было не так холодно, как на улице, но ноги продолжали подгибаться. Потом к этому прибавился вкус гениталий, что-то соленое и липкое. Плюс гадкое для не успевшего привыкнуть к курению послевкусие сигарет. В тот день меня рвало еще три раза. Свитер вонял тем же. На шее предательски краснели засосы, как первые симптомы СПИДа. Их пришлось прятать под водолазкой, под кашне. Губы покусаны, спекшиеся и грязные. Когда тот мужик спросил меня, не дам ли я ему свои часы — уж очень они ему понравились, — я так разволновался и так напрягся, что, не сказав ни слова, отдал часы, хотя потом сообразил, что я пока еще не взрослый и родители все еще интересуются судьбой моих вещей.
Вот так я с ними и познакомился. Годы спустя, возвращаясь с какого-то литературного вечера, я встретил Патрицию на вокзале. Мы договорились об интервью.
Верховодила в «Малой Тетке» Мать Иоанна от Пидоров, то есть пани Йоля — единственная женщина в этой компании. Ей было лет шестьдесят. Толстая, бесцеремонная, с острым взглядом постоянно моргающих глазок, в которых отражались лица очередных собеседников, с усами и без, очередные поднятые в тосте рюмки с коньяком. Она стояла за барной стойкой, но не обслуживала, а только пила с гостями, обзывала их пидовками и блядями, а они ее за это любили. В ее глазах, всегда чуть налитых кровью и маслянистых, отражались не только клиенты, но и целые истории. Глаза были такими блестящими и остекленевшими, что в них отражалась открывающаяся и закрывающаяся дверь, удерживающая тепло тяжелая красная портьера, висящая сразу за дверью на карнизе, а еще было видно кто с кем, когда и почем. Мать Иоанна от Пидоров могла бы написать книгу вроцлавской улицы, более того — была обязана это делать. Она была обязана писать каждый день фирменной ручкой на фирменных бланках — история А: два коньяка, один кофе, один клубничный тортик с желе, история Б: один кофе и пачка «Кармен», история В: четыре по пятьдесят чистой, потом еще раз то же самое в кредит. Где теперь счета восемьдесят восьмого года? Где эти липкие от приторных тортиков и грязные от сигаретного пепла истории? Где необъятное тело Матери, эта сверхтелесная субстанция, где ее громадные груди, это архитектурное излишество, не производящее ни на кого никакого впечатления, совершенно ненужное в данной компании? Груди, между которыми болталось какое-то янтарное сердечко, такое доброе, пьяное, полное сочувствия ко всему вокруг. Мать Иоанна от Пидоров с упорством закоренелого маньяка считала, что «всё это — дела сердечные». Все без исключения. Так она и говорила:
— Нет Джесики, она в уборной, ее туда позвали дела сердечные.
Но Мать имела право так говорить, потому что она была обладательницей целых двух громадных сердец, не считая янтарной висюльки, колышущейся посредине. Ее одутловатое лицо, ее одалживание клиентам денег, отпуск спиртного в кредит, скупка украденных где-то финских ножей и кучи всякой всячины, ее латентный антисемитизм, вдруг вылезавший наружу, когда она обнимала какую-нибудь из теток:
— Знаешь, дорогой, я ничего не имею против евреев, но, ради бога, бре-е-е-ейся, — верещала она и втыкала небритое лицо меж своих грудей. Впрочем, она во всех видела евреев. Как только я уходил в туалет, Мать Иоанна от Пидоров говорила:
— Приглядитесь к Белоснежке… Вам не кажется, что в профиль она просто «абраш»?
А поскольку у нее было целых три сердца, то ее материнского тепла хватало и на фарцовщиков, обретавшихся на противоположной стороне улицы в кафе гостиницы «Монополь». Из всех на свете теток фарцовщики признавали только Голду, сиречь Прекрасную Елену. Мне о ней мало известно. Всегда безупречно одета, практически всю жизнь без паспорта — его она получила только в доме престарелых. А до этого уже на склоне карьеры жила на кухне у бывшей своей прислуги. Когда ей исполнилось пятьдесят, фарцовщики отметили ее юбилей: Голда сидела в золотом пиджаке на золотом троне в этом несчастном «Монополе», других теток не было, не пустили.
Фарцовщики с нескрываемым отвращением ныряли в испарения «Малой Тетки» — их туда вели деловые интересы. Мать Иоанна скупала у них золото, являясь чем-то вроде персонифицированного гибрида ломбарда с меняльной конторой. Стоящие у высокой барной стойки фарцовщики стыдились своих сумочек, называемых в народе пидорасками, переминались с ноги на ногу, а ноги эти облегали непременные треники из цветной болоньи, на которые с пояса свисали многочисленные сумочки-сашетки. Русские перстни, часы, какие-то талоны — и все это Мать пробовала на зуб, грела за лифчиком и в прочих закутках своего обширного тела. Боже, как ревновали ее завсегдатаи «Малой Тетки», как они ненавидели фарцовщиков! Может, потому, что и их грязные делишки, от которых просто несло валютой, она называла «делами сердечными», а может, из-за ее щедрости, или все же потому, что она удовлетворяла не только их потребность в материнском тепле? Нет, нет, причина этой ненависти была в другом — фарцовщики смотрели на нее совершенно иначе, и она вступала с ними в эротическую игру.
— Пани Йоля сегодня неласковая, пани Йоля сегодня не выспалась…
Без фарцовщиков пани Йоля была Матерью, в их присутствии — превращалась в Женщину. Когда она разговаривала с тетками, на ее лице появлялась снисходительная улыбка и любопытство. Она смотрела на нас, как на двуглавых телят. Ей никогда не надоедали самые примитивные шутки, типа «ща как дам те сумкой по башке» или «юбку к плечу и лечу». Если подобное изрекал кто-нибудь из нас, на Мать Иоанну от Пидоров нападал приступ смеха, и она долго утирала пухлой ручкой слезы, размазывая макияж. Она любила обращаться к нам в женском роде, но на самом деле ее репертуар был еще скромнее, чем то, что ее смешило. Пани Йоля принадлежала к тому разряду людей, которые совершенно исчезли после падения коммунистического режима. Просто провалились под землю, где-то в середине девяностых. Помнится, еще в девяносто первом она пробовала завести кондитерский ларек, но из этого ничего не вышло. И если бы мне сегодня случилось встретить пани Йолю, я нашел бы ее либо на самом дне, либо постройневшей, по-европейски элегантной, испорченной.
Проявляющей интерес не к книге улиц, а к чековой книжке.
О чем их спросить, я знаю. Вот только захотят ли они говорить?
— Когда вы впервые пошли к казармам?
Оба, как по команде какого-то там их невидимого капрала, тупят взор и начинают рассматривать облезающий с ногтей лак. Лукреция встает и привычным движением ставит пластинку. Вопрос слишком серьезный.
— Когда я приехала из Быдгощи, то захотела поехать сначала в Легницу, потому что знала от других теток со станции Быдгощ-Центральная, что туда слетаются пиды, приезжают специально со всей Польши. Но там их уже столько собралось, что было не протолкнуться. Я и подумала, у нас ведь, во Вроцлаве, тоже стоят войска. И у русских нет денег на проституток, потому что их там в казармах без денег держат и никуда не выпускают. Да и петухом им становиться западло. Тогда меня осенило, и я говорю: «Патриция, это ведь наш шанс».