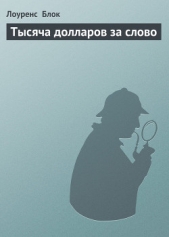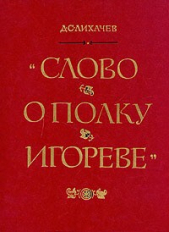Слово за слово
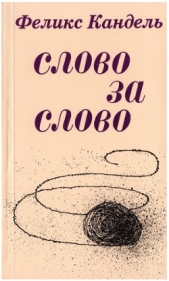
Слово за слово читать книгу онлайн
Повесть Феликса Канделя - это своеобразный социальный срез общества, вызывающий интерес и соучастие к каждой как бы мимоходом рассказанной судьбе в этой книге.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– На каком языке он говорит? – спрашивает Хана.
– На иврите, естественно.
– Я про сына спрашиваю.
– У сына, – говорит Алик, – полная каша. Русский с ивритом – не прогребешь.
– Учился бы у попугая, – советует интеллигентная Хана.
И скисает от огорчения, услышав из-за стены:
"Я помню всё, и голос милый, и ласки, ласки без конца..."
6
А за деревней, на развилке дорог, сидели в окопе трое.
Трое сидели в окопе, возле проселочной дороги, где теплой пыли по локоть, и грызли не спеша темные сухарики, попивали водицу из котелка, покуривали.
На рассвете их вывел сюда по росе командир взвода Петренко, велел вырыть окоп в полный рост и держать оборону против немецко-фашистских захватчиков в районе деревни Охлебаихи.
– Умереть, – велел Петренко, – но чтобы они не прошли!
И ушагал на другую позицию. По ту сторону от развилки. Там тоже сидели наши, но не о них речь.
И они приготовились умирать.
А рассвет был такой прозрачный, и небо в таких обещаниях, и дорога манила в вишенные сады, но место уже назначено, и могила вырыта, и час определен, – некого пока хоронить, некому засыпать.
– Мне нельзя умирать, – сказал с акцентом плотный, скуластый, глазки-щелочки. – Я представитель вымирающей народности. Нас дюжина на свете осталась, а может, и меньше. Нас надо беречь.
А другой – шустрый, ловкий, парень-вострец, как съедаемый изнутри беспокойством, оглядел его со вниманием да и пропел без связи:
– Ох, где ж ты была, волочилася? Я по бережку ходила, намочилася...
И переложил без надобности винтовку.
Образца тысяча восемьсот девяносто девятого дробь тридцатого года.
Он поворовывал изрядно в мирной жизни, парень-вострец, брал магазины, квартиры с ларьками, и теперь передыхал от работы. Его ранят потом, отнимут ногу в медсанбате, подлатают и залечат: полная потеря квалификации, – вот он-то и будет инвалидом в электричке, геройский увечник, гнусавый, наглый, хмельной:
– Во все боки, во все вздохи веселись моя душа...
Третьим в окопе был парнишечка.
Лет восемнадцати.
Красноармеец Макарон.
Сдобный, теплый, без корочки: маминой, домашней выпечки.
Мама Макарон взбивала ему подушку.
Папа Макарон целовал на ночь.
Бабушка Макарон подтыкала под бочок одеяло.
Дедушка Макарон подкладывал грелку.
Из тепла да прямо в окоп.
Он не стрелял еще ни разу в жизни в живого человека, красноармеец Макарон, и даже не знал, как это делается.
Он не понимал еще, что это значит – умирать, и глядел без страха на деревню Охлебаиху.
Оттуда ждали немцев.
И немцы появились, естественно. Пылью припорошенные. Без конца-края. Белозубые и благодушные. Катила на Охлебаиху нерусь в кузовах с бортами, с высоты оглядывала завоеванные окрестности.
Солнце упиралось в макушку. Прожаривало, как в вошебойке. Наливало в Охлебаихе вишню-ягоду, крупную, алую, сквозистую: вишня-владимировка – известный сорт.
Порубали вишенные деревца, завалили в широкие кузова: по счету, на каждый по два. Ехали, обирали ягоду, плевались косточкой: веселые, кровавозубые пришельцы, обобранные деревца скидывали на дорогу.
И Охлебаиха осталась без вишен.
Как не было.
– А вы с чего вымираете? – спросил красноармеец Макарон, которому по малолетству было любопытно.
– Нагрузку не держим, – пояснил скуластый. – Уж больно много вы напридумали на нашу голову. Работать. Радио слушать. В очереди стоять. Кому это под силу?
А парень-вострец пропел не без лихости:
– Из колодца вода льется, вода волноватая...
И снова переложил винтовку, чтобы была под рукой.
А немцы уже проехали деревню Охлебаиху, порубали по пути всю вишню и вмиг докатились до развилки.
Тут они встали, призадумались, куда ехать: трое в одном окопе попридержали дыхание, трое попридержали в другом.
Немец в головной машине развернул карту, водил по ней пальцем, решал, не спеша, кому жить, кому помирать, а они глядели из окопов, не смаргивая, пот лили соленый: всякая живелочка жить просится.
И только парень-вострец бормотнул, ощерясь:
– У меня коса большая, в косе сорок волосин...
А больше никто не посмел.
Мама Макарон накладывала бывало тарелку с верхом.
Папа Макарон намазывал хлеб маслом.
Бабушка Макарон подкидывала лакомые кусочки.
Дедушка Макарон глядел в рот и таял от наслаждения.
А умирать приходилось одному, в небрежно отрытом окопе, где песок струйкой ссыпался на башмаки, до времени хоронил ноги.
Немец надумал наконец, махнул рукою налево, и они покатили себе по той дороге, мимо того окопа, гранатами закидав походя – тех – не этих – из высоких кузовов.
– А сколько вас раньше было? – спросил красноармеец Макарон, когда всё закончилось и пыль осела.
– А раньше нас много было, – ответил представитель вымирающей народности. – Воевать. Отступать. Гранаты кидать. Кто это выдержит?
Вот он-то и переживет всех, этот скуластый и узкоглазый, станет со временем представителем вымершей народности, рукою махнет на прошлое – не вымирать же без пользы, да и напишет зато диссертацию, научную и доказательную, где скажет прямо, без экивоков: "А кто хочет, тот пусть и вымирает. Так и должно быть. Единая семья народов придет через вымирание".
И ожиреет с этого.
Озолотеет.
Харю наест – на троих хватит.
Но это потом...
Еще посидели. Поглядели на Охлебаиху. Допили водицу из котелка. Догрызли сухарики.
Команды на отход не было.
– А вы кто будете? – спросил любопытный Макарон от нечего делать.
Парень-вострец глаза выголил:
– Жиганье, – пояснил. – Шебуняла. Волочильных дел мастер. Уж больно ты, малый, вплетчивый.
– Я вас не понимаю, – сказал красноармеец Макарон домашней выпечки. – Говорите вы по-русски, а не разобрать.
– Мне тоже, – сказал скуластый.
– Нерусь, – пояснил вострец. – Куда вам.
И выстрелил в небо, как убил кого.
К вечеру на них вышла медсестра Клава, запыхавшаяся от переживаний, и, зацепившись за нее, скакал на одной ноге командир взвода Петренко, бодрый и неустрашимый.
– Отступать, – приказал, – все за мной!
Они отходили лесами, и Клава никому не доверяла раненого командира, волокла на себе, постель ладила на привале: по пути, верно, и сговорились, на привале, видно, и начали, – стреляная нога не помеха.
– А Петренки в общественном лифте, – говорила на это блокадная старуха, – занимаются тем, чем положено заниматься в спальне.
И принципиально ходила пешком на пятый этаж.
В час по пролету.
Блокадные – они со странностями.
Мама Макарон умирала по внуку.
Папа Макарон умирал по внучке.
Бабушки Макарон не было уже на свете, а дедушка Макарон согласен был на кого хочешь, лишь бы купать поскорее, пеленать, курлыкать за компанию.
Что такое, в конце концов, дедушка? Та же бабушка, только с бородой.
Но инженер Макарон на уговоры на поддавался и жил холостяком.
Одиноко, закрыто, безлюбно, не получая удовольствия от общего веселья, убегая из любой компании, когда превышался предельный уровень неестественности.
Желчный оптимист Макарон.
Он поднимал на улице руку, но такси не останавливались на призыв.
Его попутчики поднимали руки, но такси опять не останавливались.
– Отойди за угол, – просили попутчики. – Ты невезучий.
Он уходил за угол. Попутчики останавливали первое же такси. Он выбегал к машине. "Я еду в гараж", – тут же говорил шофер.
Ночами ему снился окоп, дорога в пыли по локоть, деревня Охлебаиха на пригорке, в которой он так и не побывал, и наползало оттуда большое, хвостатое, кровавозубое, допыливало неизбежно до развилки – смертная на всех пауза, а он ждал почему-то с той стороны, у того окопа, который они походя забросали гранатами.
Он был невезучий в жизни, инженер Макарон, а тут – надо же – повезло.
У Бога дальний прицел.