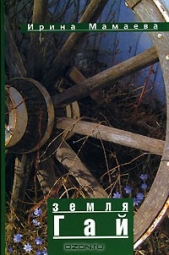Земля Гай (СИ)

Земля Гай (СИ) читать книгу онлайн
Ирина Мамаева — молодой прозаик из Петрозаводска. За свой дебют, повесть «Ленкина свадьба», получила премию имени Соколова на Пятом форуме молодых писателей России.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Господи, прости Михайловну за ее слова: она не в своем уме.
— Это я — не в своем уме?! — обиделась Михайловна. — Это ты не в своем уме! У тебя и в молодости ума не было, а сейчас — и подавно! Глаза вылупит и несет ахинею, кляча старая.
— Сама — кляча! Глухая тетеря!
— Лучше глухой быть, чем без памяти. Ну–ка скажи мне, как твоя фамилия?
— Э… — Кузьминична болезненно поморщилась: она не помнила.
— Не помнишь?
Та отвернулась. Губа ее обиженно задрожала: слезы у бабки всегда были близко, наготове.
— Ладно тебе… Ну и хрен с ним, шо не помнишь… А? Кузьминична? Хочешь, я тебе молочка парного принесу?
Михайловна вышла в сени. Вернулась с кринкой.
— Выпей молочка.
Кузьминична послушно взяла чашку.
— Сын у тебя есть. На юге живет, где море.
— А почему же он не со мной живет?
Михайловна уже пожалела, что затронула тему детей. У Кузьминичны действительно был сын. Был да сплыл, как говорится. Как леспромхоз перестал платить зарплату, как начались сокращения — запил. Но жена ему хорошая попалась: собрала вещи, детей, его в охапку — и увезла на Кубань к родственникам. Она ведь, как и он, была из детей тех добровольцев, кто в сороковых–пятидесятых вербовался на дальние северные стройки, разработки, лесозаготовки. Но генетическая память о теплых и солнечных — без промозглых ветров, трескучих морозов, ежеутренней расчистки тропинки от полутораметрового слоя снега — станицах жила где–то глубоко внутри. И когда нити, привязывавшие их к этому месту, к Гаю, леспромхозу, стали рваться одна за другой, они не хватались за них.
Хотели и мать забрать, да пока обустроились на новом месте, пока работу нашли… А у той болезнь началась — куда она им, больная, нужна была? Так и пропали: не пишут, не приезжают. Михайловна как–то давно еще стянула потихоньку у Кузьминичны все фотографии: не помнить–то оно иногда лучше бывает, сердечку полегче — все меньше печалей носить.
У самой Михайловны детей не было. Со многими бабами, девчонками проработавшими всю войну по лесхозам, не жалея ни здоровья, ни своей женской природы, последняя расквиталась жестоко. Слишком хорошо знала Михайловна, как от тяжелой работы у женщин выпадает матка и ее приходится подвязывать тряпицей.
Но с Кузьминичной легко было переводить разговор на другую тему.
— Сегодня пенсию принесут, — сообщила Михайловна, и Кузьминична враз забыла обо всем:
— Пенсию?..
— Да!
Но Кузьминична не могла сообразить, что в этом особенно радостного для них.
— Ну, пенсию, деньги — не помнишь, зачем нам? — Михайловна даже рассердилась. — Вот полоумная, хоть бы про цель нашу помнила!
— Сама такая!
— Куда поссать идти забывает — а туда же: отвечает!
— А кто Ваське третьего дня вместо трех литров молока двухлитровую банку всучил, а?!
Михайловна обалдела — этого Кузьминична помнить не могла! Однако ж.
— А ты ему сослепу на той неделе больше денег дала, чем следовало!
— А ты всегда его обсчитываешь. Ты людей ненавидишь!
— А ты с молодости — сучка бессердечная! У бабы, потерявшей ребенка, мужика увела!
Кузьминична от последнего аргумента сникла.
— Михайловна, я больше не буду… — совсем потерялась она, хлюпая носом, хныча и жалея себя.
— Чего не будешь–то? — успокаивая, похлопала ее по плечу Михайловна.
— Прости меня, дуру старую, шо ругань завела, а? Совсем с головой худо… — Кузьминична поймала руку Михайловны и прижалась к ней щекой. — А пошто мы разлаялись–то, Михайловна?
Та виновато отвела глаза:
— Да я сама хороша… Пенсия сегодня, говорю; скоро пенсию пойдем получать.
— Пенсия — помню, помню, как не помнить! Я все помню.
Но про их цель она не помнила.
Глава 4
Федька Панасенок стоял во дворе, крепко опершись о черен вил и разглядывая хозяйство: сараи, гараж с «Жигулями», скотный двор, кучу делового горбыля у стены, трактор, Пирата на цепи. Он смотрел и не видел свое добро. Точнее, видел, но не это. Крепкий, не старый еще мужик, он был из тех, кто чувствовал себя хозяином не только своих коров и сараев, но и полей, лесов, рек — всей земли лишь потому, что родился на ней, с детства работал на нее, поливал своим потом, и если уж не оспаривать существование небесного града, куда мы все однажды вернемся, то Федька был уверен, что и там ему давно припасено не самое худшее местечко.
Фермером Панасенка можно было назвать только с большой натяжкой. Когда развалился зверосовхоз, в стране началось время кооперативов и семейных подрядов, а потом и фермерства, он взял в аренду у леспромхоза, которому передали имущество почившего в бозе норкового хозяйства, трактор да землю. Но то ли Федька оказался никудышным хозяином, то ли государство подставило фермеров по полной программе, но так до сих пор и жил он, перебиваясь с хлеба на воду и еле сводя концы с концами. Пяток коров, десять гектаров, старенький трактор да такие же старенькие «Жигули» — вот и все богатство.
Панасенок любил работать. Но одно дело — гнуть спину и видеть результаты своего труда, другое — видеть что–то странное, не сообразующееся с расчетами и мечтами. Не один десяток лет он старался, наращивая и накапливая, складывая и умножая, но как–то оно с чего начал, все то же и оставалось, не менялось, застыло все давно, закостенело, и вновь купленные коровы оказывались не хуже и не лучше забитых на мясо. Техника ветшала, доски в сараях рассыхались, да кабысдох на цепи все реже и натужнее лаял, а больше лежал где–нибудь незаметно и одиноко, не спал, а так, пребывал где–то в своих собачьих грезах. Да и сам фермер за эти годы не молодел.
Это поначалу ему казалось — надо больше! Больше работать, больше держать коров, больше сажать, больше продавать и больше откладывать денег. И все это
будет — после коллективного, общего, ничейного хозяйства — свое, собственное, своим горбом нажитое. Виделись Панасенку поля и поля до самого леса на горизонте, распаханные, унавоженные, засеянные: идешь по ним ранней весной — сырая, только что проснувшаяся земля липнет к сапогам, прихватывает за ноги, играя, и идти тяжело, и ветер продувает насквозь, не выстуживая, а раззадоривая еще трудиться, еще уставать и потеть, чтобы было право идти вот так по своей земле, брать ее в руки, мять, пропускать сквозь пальцы и радоваться.
А весной в полях — серые журавли. С длинными тонкими, как ивовые прутики, ногами, с длинными клювами. Большие, никчемные, в отличие от куропаток и глухарей, а вот ведь, глядишь на них, и тоже что–то в душе шевелится. Ходят они по земле так же, ноги у них проваливаются, и земля прилипает, и тоже у них есть право ходить по земле…
…Впрочем, Панасенку хотелось и денег. И хотелось не меньше, чем всего остального. Денег, машину новую, технику, скважину пробурить во дворе, чтобы насос воду качал в дом, яму–септик вырыть, чтобы с помойными ведрами не бегать — чтобы жить по–людски, — разве это такое страшное желание? Чтобы детям в городе можно было помогать, чтобы приглашать их к себе не стыдно было — что, не понятно? Искал фермер, выжидал, рассчитывал, силен не бухгалтерскими познаниями, а вековой крестьянской хитростью: вот он, прост как на ладони, весь нараспашку, а поди узнай, сколько у него денег в кармане… Э-эх, живем — не мотаем, попадешься — обротаем.
Простое человеческое счастье… А бывает — не простое? Или — не человеческое? Зачем люди живут на свете? Кой смысл вообще всего этого — мельтешения, суеты этой, дум и надежд, радости и отчаяния — качелей этих, не тобой выдуманных? По молодости высоко взлетают качели, подкидывают, поднимают надо всем, перетряхивают все внутри — и жив ты еще, жив еще, курилка старая, живешь и дышишь, не только выдыхаешь, но и вдыхаешь полной грудью на взлете. Взлетаешь — знаешь, конечно, что, взлетев, только и будет тебе — вниз, но знаешь также, что, упав, отчаявшись, снова все простится тебе: подкинут, встряхнут, покажут все это сверху — вот оно какое! И красивое же, черт побери, красивое…