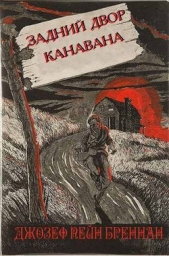Критическая температура

Критическая температура читать книгу онлайн
В своей новой книге для подростков «Критическая температура» Е. Титаренко ставит своих героев в сложные условия, когда необходимо принять единственно правильное решение, от которого зависит, как сложится их жизнь, какими людьми они вырастут. Писатель как бы испытывает героев на прочность, ни верность высоким нравственным идеалам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Крохотными шажками Клавдия Васильевна не прошла, а проскользнула к столу и, положив на него классный журнал, вместо того чтобы поздороваться, долго, недоумевающе разглядывала книгу, которую принесла с собой. «Стивен Ликок», – прочитал за это время весь класс. В школе с первых дней узнали страсть новой химички: она обходила днем все книжные магазины, роясь в букинистических отделах, и хоть что-нибудь, да приобретала.
– Знаете, о чем я подумала, ребята… – тихонечко, будто для самой себя, проговорила она. Потом спохватилась: – Садитесь! – И, глядя на сочинения Ликока, завершила: – Я сейчас подумала вдруг, что этой книжки я уже не успею прочитать…
Она подняла глаза на класс, и в лице ее застыло непонятное удивление.
Послышался чей-то несдержанный смешок. И хотя Клавдия Васильевна высказала далеко не шутейную мысль, Милке ее слова тоже показались забавными.
Кто-то в свое время сострил, что Клавдия Васильевна – отличная пара историку Неказичу. Но Неказича любили за добродушие, непосредственность. А Клавдия Васильевна сразу и безоговорочно породила неприязнь к себе, словно бы из-за тайных происков двенадцатая школа лишилась своей единственной, незабвенной Надежды.
Клавдия Васильевна вызвала к доске Юрку. Милка невольно сжалась, как будто вызвали их обоих. Юрка прошагал мимо и взял в руки мел с тем нерешительным видом, какой появляется у него на ринге. А Милку не покидало впечатление, что защищать ему предстоит не только свое, но и ее, Милкино, достоинство, ее честь. Правда, сомневаться в Юрке не приходилось. Юрка не мог подвести ее, и когда из-под мелка заструились длинные, точные формулы, она испытала гордость.
Совершенно неожиданно Милка подумала о бывшей химичке Надежде Сергеевне, о том, что та могла быть неравнодушной к Юрке! Ведь только из-за нее он не стал отличником в первой четверти. При одинаковом количестве пятерок и четверок та вывела ему четыре. И спрашивала всегда с пристрастием, чаще других…
Милку аж в холод бросило от этих невероятных предположений. Ну, разумеется! Голубые глаза Надежды всегда искрились затаенным весельем, а когда она смотрела на – Юрку, их словно бы ледком покрывало… Впервые отчетливо подумала она, что Надежда Сергеевна, – такой же, как все, человек. Женщина. Вдобавок молодая, интересная. И незамужняя ко всему!
Однажды она почему-то слишком долго раздумывала, что поставить Стаське Миронову. Потом неуверенно вывела тройку.
– Мне не нравится ваш ответ… – Она всех, даже пятиклассников, называла на «вы». – Мне вообще не нравится, как вы учитесь. И живете, наверное. Почему вы все делаете вполсилы? Человек должен работать на пределе мощности.
Разговор этот происходил уже на перемене, и, шутки ради, Юрка спросил:
– А я, Надежда Сергеевна, в полную мощность работаю?
Она зачем-то переспросила:
– Вы?.. Пожалуй, да. Но вы слишком распыляетесь, – глядя на него теми строгими, подернутыми ледком глазами, заметила она, словно хотела сказать при этом больше, чем заключалось в словах. И добавила после паузы: – Во всем. Надо быть требовательнее, суровей к самому себе.
На вечере, во время зимних каникул, Надежда была вместе с Клавдией Васильевной. Должно быть, представляла ей будущих учеников. И один вальс Юрка танцевал с учительницей – вальсировать Надежда Сергеевна умела, ничего не скажешь. Но потом Юрка приглашал Олю… А записку, когда затеяли играть в веселого почтальона, прислал, несмотря ни на что, Милке. Она тогда не придала ей особого значения. «Миледи! – извещал Юрка. – Вы очень нравитесь мне. Пустите в сердце, если найдется место». Она даже не ответила ему, ведать не ведая, что, всего каких-нибудь три месяца спустя он войдет в ее сердце уже без спроса. А тогда… Что ж она еще заметила на том вечере? Надежда Сергеевна подозвала Олю и, кажется, знакомила ее с Клавдией Васильевной…
«Чепуха какая-то!» – с внутренним содроганием подумала Милка.
Отходя от доски, Юрка снова едва заметно улыбнулся ей. А Милка покраснела. Раньше вогнать ее в краску было почти невозможно. Теперь она вспыхивала румянцем по поводу и без повода.
Ото всех этих раздумий и от химии также Милку отвлекло событие, которое оказалось внезапным даже для искушенных десятиклассников.
Инга Сурина наткнулась в своей парте между учебниками по истории СССР и «Органической химии» на второе, переписанное аккуратными печатными буквами письмо.
Белая как полотно Инга некоторое время держала его на расстоянии перед собой, разглядывая, как разглядывают жабу…
А спустя пять или десять минут тетрадные листки с новым посланием уже ходили по классу.
«Мой славный, мой единственный!» – опять ласково начинала неизвестная.
И уже сама первая фраза настораживала: «Вот и еще год позади…» А дальнейшее переворачивало все досужие представления об авторе писем:
«Много это или мало? Триста шестьдесят пять дней… Иногда, с предельной ясностью осознав всю быстротечность нашего существования, я думаю, какое счастье, что есть у меня ты! Мысль о тебе, о том, что ты живешь, дышишь, думаешь, наполняет содержанием все триста шестьдесят пять суток, каждые двадцать четыре часа в них. И мое восприятие окружающего, вдруг четкое, емкое, приобретает гравюрную завершенность. Но иногда, в порядке самоанализа, а может, из-за приступов незваной тоски, я представляю, что тебя нет у меня, и в страхе вижу себя неприкаянной, потерянной… Как сразу все становится иным!
Вдруг теряют смысл случайные обретения, вдруг осознаешь действительную цену утрат… Я вскакиваю как угорелая и через весь город, к окнам твоим… Сама потом смеюсь над собой, и легко-легко вдруг становится. Приятно, знаешь, убедиться лишний раз, что ты такая законченная, такая беспросветная дурочка.
Я там часто бываю, возле тебя. Особенно летом. Потому что у меня их много, тем для раздумья… Но, пожалуй, всего важнее для меня – понять: корыстно или бескорыстно люблю я твоих детей? Это очень важно. А я не знаю. И сильно мучаюсь от этого… Я боюсь, что в наши отношения, в мои чувства к тебе ворвется что-нибудь нечистое, неискреннее, заведомо фальшивое. И мне становится больно… В августе я видела на бульваре твоего карапешку. Он стоял против тележки с мороженым. Взрослые люди брали и ели такие большие, круглые порции в шоколаде. А он облизнет губы – они у него опять пересохнут, он снова облизнет. Мне так хотелось подойти угостить его! Не решилась…
Жизнь по-своему и справедлива и несправедлива к людям. Ты знаешь: абсолютно счастливые, полностью удовлетворенные, преуспевающие во всех отношениях люди живут один раз, всего одну жизнь. А чудаки, как я, да и как ты – тоже в значительной степени одинокие, проживают, по сути, множество – и трудных, и радостных – жизней. Ведь наше прошлое складывается во многом из наших прошлых эмоций. Отсюда: ранняя седина, ранние морщины и мудрое старческое восприятие земного бытия. Каждый день для меня, а вернее – каждый вечер после неизбежных дневных забот – это еще одна прожитая с тобою жизнь. И сегодня ты придешь ко мне не таким, как вчера, сегодня мы построим нашу судьбу иначе, чем накануне…
В юности мы были бессильны перед обстоятельствами, перед жизнью. А теперь я поджидаю, когда ты станешь дедушкой, чтобы с полным основанием, без оговорок перейти в благостное царство бабушек. Событие это, пожалуй, не за горами. И, честное слово, во мне уже зреют терпеливые, теплые бабушкины чувства.
Прости меня за этот печальный тон. Ведь самое главное, что мы есть, что мы видимся и никого – никого, слышишь?! – не обворовываем при этом.
Меня одна женщина предупреждала: нельзя мужчине слишком часто говорить о своем чувстве – он может разлюбить. А я все повторяю и повторяю, глупая… Ты не сердись, пожалуйста. Я сильно-сильно люблю тебя. И ты будь, насколько можешь, радостен в эту ночь!
Целую тебя, хороший мой».
После этого нового послания сам собой напрашивался вывод, который сразу почему-то никому не пришел в голову.