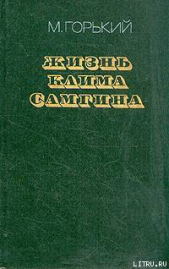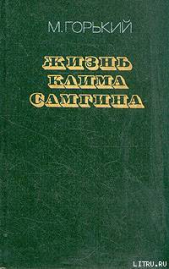Московская книга
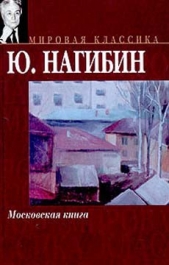
Московская книга читать книгу онлайн
Вниманию читателей предлагается сборник произведений известного русского писателя Юрия Нагибина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот в Приарбатье меня окружила Москва, какой она стала после пожара 1812 года. Вместо дворцов, палат и городских усадеб — реже каменные, чаще деревянные, оштукатуренные особняки об один-два этажа. Вместо пышных храмов, преимущественно нарышкинского барокко, небольшие церковки и много, много старых деревьев, но не в садах, а в палисадниках и малых двориках; из-за каменной или чугунной ограды клены простирали над узкими тротуарами раскидистые ветви в лапчатых листьях. Сухой осенью нежно шуршали арбатские ночи. Тихи, тенисты и уютны были эти редко прямые, куда чаще извилистые, причудливо искривленные переулки. Как славно было здесь жить после всех ужасов наполеоновского нашествия, небывалого в истории Москвы опустошительного пожара, пощадившего по странной игре случая все триста шестьдесят полицейских будок.
После пожара комиссия во главе с лучшим зодчим Бове, создателем Большого театра, Триумфальных ворот, Градской больницы, разработала типовые, как мы сейчас говорим, проекты жилых домов для людей разных званий и достатка. И когда любуешься многочисленными особняками той поры, сохранившимися не только в районе Арбата, но и в других частях города, то радостно удивляешься их разнообразию, и старушка Москва, впервые подчинившаяся строительному плану, сохранила свой живой облик, и прав был некий коренной москвич, писавший в те годы: «…ходя по Москве, вы не идете между двумя рядами каменных стен, где затворены одни расчеты и страсти (накопительские, надо полагать. — Ю.Н.), но встречаете жизнь в каждом домике отдельно». Хоть и коряво, но хорошо сказано!..
Арбатские переулки, расположенные в квадрате, образуемом Садовой, Кропоткинской, Гоголевским бульваром и самим Арбатом, в наибольшей цельности донесли до наших дней образ послепожарной Москвы. Границы Приарбатья правильней было бы числить по улице Воровского, но с появлением Калининского проспекта эти кварталы имеют «смятенный вид». Чистая и светлая пора в московском градостроительстве замутилась на исходе XIX века, а в первое десятилетие XX столетия окончательно возобладал модерн вперемежку с псевдорусским стилем — претенциозная безвкусица алчной эклектики. На фоне особняков-ракушек, знойных мавританских мотивов, столь неуместных под северным солнцем, и обнаженных дев под карнизами выигрывала добротная архитектура доходных домов, не претендующая на ранг искусства, но не оскорбляющая вкуса и служащая своему назначению.
Словно некой центробежной силой меня уносило все дальше и дальше от исторического ядра столицы. Начинал я жизнь в Белом городе, невдалеке от Китайской стены, где шелестел листами старых фолиантов книжный развал, продолжал — в пределах Земляного города, а завершаю — за Камер-Коллежским валом, созданным, в отличие от остальных московских «городов», не обороны ради, а на предмет недопущения в столицу беспошлинного вина. За бывшей винной заставой в нашем районе нет ни московских древностей, ни московской старины, если исключить немногие ветхие дореволюционные дачки допетровского стиля, в котором доверчивый и увлекающийся В. В. Стасов усмотрел возрождение национальной русской архитектуры. Задавленные корпусами новостроек, дачки тихо рассыпаются, изъеденные жуками-древоточцами, среди пыльных ржавых сиреней. Впервые я оказался в архитектурном вакууме. Архитектура в нашей части Москвы кончается на Петровском дворце, построенном Матвеем Казаковым в несвойственной ему манере, и начинается много дальше, в бывших подмосковных усадьбах вельмож. К нам всего ближе юсуповское Архангельское, дивно спланированное Де Терном, но это и по новым границам уже не Москва.
Историческая и эстетическая пустота нового местожительства, навязав душе чувство постоянного сиротства, способствовала моему отчуждению от Москвы. Тем более что у меня появилось загородное жилье, где я проводил большую часть года. И оставлял я свою берлогу лишь ради Ленинграда. Я был околдован Ленинградом. Многое связывало меня с этим городом: война, работа на «Ленфильме», рассказы, дружба и, наконец, любовь: моя жена — коренная ленинградка. И настало такое время, что я и жить стал больше в Ленинграде, нежели в Москве, и узнал его лучше, чем стремительно менявшуюся Москву.
Москва же не только менялась, но и расширялась, придвигалась к моему загородному жилью близ деревни Ватутинки по Калужскому шоссе. По пути она поглотила Воронцово, Коньково, Теплый Стан. Целые микрорайоны вырастали быстрее, чем прежде отдельные дома. Я уже не помню сейчас, в каком году открылся стадион имени Ленина, запестрела ярмарочная площадь перед ним, красиво вписалось в срез Ленинских гор новое здание метро, но хорошо помню, как ахнул, впервые увидев распахнувшийся во всем великолепии, на зеленом взгорке, дом Пашкова — лучшее украшение Москвы.
Но странно, даже то поистине прекрасное, чем обновилась Москва, не только не приближало меня к ней, напротив, усиливало отчуждение. Влюбленный в «прозрачный сумрак, блеск безлунный» белых ночей, я чувствовал себя в Москве блудным сыном, которого хоть и приносит к отчему порогу, но тут же влечет прочь. Я уходил, так и не ощутив прикосновения ищущих рук ослепшего отца. Конечно, я сознавал, что теряю Москву, но утрата не причиняла мне боли. А если порой и теснило грудь, то я быстро излечивался Ленинградом…
А потом в Москву приехала кенийская писательница Грейс Огот. Незадолго перед тем она принимала меня в своем очаровательном, увитом бугенвиллеями доме в Найроби, и я очень сдружился с ней и ее мужем Алланом, видным историком народности луо, профессором университета. Выполняя данное в Найроби обещание, я повез Грейс по Москве. Очень высокая, длинноногая и длиннорукая, с выпирающими, как у всех женщин-луо, верхними зубами и при этом странно и ярко красивая, женственная и стремительная, как антилопа импала, непосредственная, как ребенок, при вечной грусти в глубоких влажных темных глазах, Грейс то и дело требовала остановить машину, зачастую в недозволенном месте, выскакивала наружу, всплескивала руками с шафрановыми ладонями и, задыхаясь, кричала: «Марвелоуз!.. Ит'с марвелоуз!..» И блюстители порядка, вышколенные в духе высокого интернационализма, натянуто улыбались и не гнали нас прочь с восхитившего Грейс запретного места.
Особенно восхищали ее площади. Существует строгое и авторитетное мнение, что в Москве лишь две площади соответствуют высшим архитектурным канонам: Красная, разумеется, и Свердлова, бывшая Театральная. К сожалению, ее испортил грубый торец только что достроенной гостиницы «Москва». И все же, когда Грейс закричала свое самое громкое «Марвелоуз!», потрясенная распахнувшейся перед нами с улицы Горького неохватной площадью, я готов был вторить ей. «Таких площадей нет нигде в мире!» — с некоторым ожесточением утверждала Грейс, а она имела право так говорить, объездив все континенты, кроме Антарктиды, но этот суперпустырь не в счет. Громадность чистого пространства, которое город с невиданной щедростью высвободил в самом центре, в скрещении всех пронизывающих его напряжений, поистине ошеломляюща. И тут уже не до ортодоксальных канонов, захватывают масштаб, царственная свобода жеста, негородское обилие неба (и по контрасту вспоминается душный, запертый Нью-Йорк, где вместо площадей — перекрестки); окаймляют же это воздушное озеро кремлевские стены и протянувшийся вдоль них Александровский сад, торцовый фасад Манежа, старый университет, красивое здание Жолтовского, привившего ренессанс к современным формам, Исторический музей и щусевский — не чета новому — торец гостиницы «Москва». Сама нерасчетливость богатырского размаха покоряет, такое по плечу только Москве.
Но апофеозом нашего путешествия стал обзор столицы со смотровой площадки Ленинских (Воробьевых) гор. Недаром же сюда приезжают новобрачные, и кисейная фата невест, подхваченная ветром, развевается над глубокой падью. Прекрасно спланирована сама площадка с балюстрадой, и как хорошо, что сохранили маленькую церковку с зелеными главками, будто печать в углу грамоты, дарующей милость, а грамота та — вся расстилающаяся внизу, охватная из края в край Москва. Чудесна крутая излука реки Москвы, огибающей территорию стадиона; великая причастностью к столице, но не ширью и обилием вод, река набирает здесь силу и упругость.