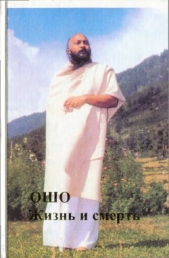Новый Мир ( № 4 2005)
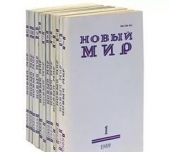
Новый Мир ( № 4 2005) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но это не следование моде, по поговорке “из моды в моду, остатки в воду”. Это едва ли реакция “на подводные изменения вкусов и приоритетов интеллигенции”.
Это не жонглирование рассудочными изобретениями и не произвольно-игровая смена ролей и масок. Точен в деталях и все-таки не прав в главном Кривулин, пишущий, что “у Сапгира было много ролей, по крайней мере несколько различных литературных масок: официальный детский поэт и драматург, подпольный стихотворец-авангардист, впервые обратившийся к живой новомосковской речевой практике, сюрреалист, использовавший при создании поэтических текстов опыт современной живописи и киномонтажа, неоклассик, отважившийся „перебелить” черновики Пушкина, визионер-метафизик, озабоченный возвышенными поисками Бога путем поэзии, автор издевательских считалок, речевок, вошедших в фольклор (типа „Я хочу иметь детей / От коробки скоростей”). Все это Сапгир. Его словесные маски суть масленичные, праздничные личины…” То, что мы называем “ролью”, то, что мы называем “маской”, в нашем случае правильнее было бы именовать гранями романтической личности, не удовлетворенной тесными пределами существования. Мне кажется, нет оснований сомневаться в том, что в поэзии Сапгира есть единый, пусть и трудноопределимый, личностный центр.
Воля к обновлению — это не рассредоточение творческой личности, тем более не потеря ее. Комментируя сапгировскую книгу “Терцихи Генриха Буфарева”, Шраеры угадали родство Сапгира с великим португальцем Фернандо Пессоа, создавшим несколько поэтов-гетеронимов. Правда, при этом они объяснили появление гетеронима у Сапгира не слишком оригинально — игрой “в классики и с классикой”. Что означает эта формула — Бог весть. Но только не нужно, думаю, считать гетеронимию Сапгира выражением деперсонализации, клиническим случаем распада авторского “я” на манер персонажа Пиранделло. И в случае Пессоа, и в случае Сапгира здесь скорей имеет место попытка нащупать новые ресурсы самопознания, объективировать субъективно-личное начало.
Сапгир на самом деле замечательный и в высшей степени характерный для второй половины ХХ века поэт. Он ответил на чад и бред эпохи. В его стихах есть мощный резонанс на ее важнейшее содержание. Есть много близкого тому художественному поиску, который велся тогда в изобразительном искусстве. Но Сапгир все-таки вовсе не определял лицо тогдашней поэзии, и если влиял — то не на всех. Да и что нам до его последователей, которые оказались, как правило, содержательно беднее Сапгира.
Бесконечное разнообразие, предъявленная Сапгиром воля к обновлению — это прежде всего веяние свободного духа, не удовлетворяющегося ничем остановившимся. На угрюмом фоне застоя, при кажущемся отсутствии удобоваримой исторической перспективы, в барачно-казарменной паузе — веселый порыв к новому, к небывалому, к новым средствам выражения нового содержания, к тому, чтобы открыть что-то, что еще не было так названо, так определено. У Кривулина мне еще попалось в приложении к Сапгиру слово “протеизм”. Да! И так можно назвать свободное самообновление, приближение к сути себя и мира разными путями и средствами. Вот о чем может идти речь. Но не “культурный протеизм” (где определение намекает на эрудицию и на условность, искусственность протеизации), а — личное мифотворчество, по-разному черпающее из недр подлинного бытия.
Он на самом деле классик . “Классик авангарда”, еще раз со значением поправят меня Шраеры. Нельзя в ХХ веке без авангарда. Никто не против. Но поэтический авангардизм Сапгира — это, пожалуй, явление, о котором нужно говорить не в жесткой связи с воспринятыми им традициями первой половины ХХ века. Его поэзия — вполне непринужденный творческий прорыв, усвоивший уроки революционеров первой половины столетия и, однако, свободный от революционного этого их задора, от бунтарской напряженности.
Он пел, как свободная птица. Он хотел петь свою песню, и петь по-своему. В его творчестве преломились художественные поиски эпохи. И в то же время он выходит своими стихами за пределы своего конкретно-жизненного времени. Он уникален. И в стихах его есть то, что делает их современными сегодня. Что будет, думаю, делать их современными завтра. А эти качества традиционно и определяются как классичность . И как положено современному классику, Сапгир — художник большого синтеза, неоклассически ориентированный не столько на моду, сколько на самые-рассамые вершины поэзии. Вершин таких на Руси немало, так что и творческий синтез Сапгира получился удивительно многогранным и — подчас — даже гармоническим. (Пушкинское, да.)
Главная посмертная (а может, и прижизненная?) драма Сапгира в том, что его слишком уж часто понимают и принимают в прикладном формате, ценят за приемы, за находки, за искусность и виртуозию. Все это (приемы, находки…) имеет свое место. Кто бы спорил. Беда, однако, что за деревьями теряется лес. Разговор о Сапгире часто увязает в этой сухомятке, характерной у нас для последней четверти минувшего века. Когда казалось, что поэт — и даже великий — может спокойно обойтись без миросозерцания, без глубинного проникновения в суть вещей, без ангельского пения и херувимских слез. Якобы не это в поэзии главное. А лишь виртуозное владение словом. И вовсе при этом не тем словом, о котором писал однажды Гумилев, следуя за Евангельем от Иоанна, а — звуковым конструктом, буквенным муляжом, пуговицей от тужурки, пряжкой от ремня. Эта болезнь духа извела саму себя. Но ее рецидивы еще случаются и сегодня.
И даже у самых тонких и умных ценителей творчества Сапгира отчего-то немел язык, когда они начинали говорить о духовной емкости сапгировских стихов. Тот же Виктор Кривулин (ценимый мной, оговорюсь на всякий случай, высоко). Разве можно понять, на что конкретно он намекает в таких невнятных выражениях: “И вот в чем отличие Генриха от других „лианозовцев”: эти приемы служили для Генриха построению некоего смыслового здания. И здесь он, конечно, ближе к классической модели поэта. И самооценка другая. Он относился к себе с некоторой долей романтизма. То есть в нем был романтизм, который другими преодолевался и который для московских поэтов вообще был явлением редким”.
Или Юрий Орлицкий. Как бы мне поглубже постичь разбросанные там и сям в его умных статьях указания на оптимизм Сапгира, “мудреца и весельчака Генриха”?.. Что с чем, конечно, сравнивать. На фоне Бродского и Кушнер закоренелый оптимист. Но меня уже коробит, когда нас утешают: якобы знаменитое трагическое стихотворение “Голоса” (“Вон там убили человека…”), с которого, кстати, начинается сборник в “НБП.МС”, исполнено (и даже “слишком”) витальной силы и ярмарочного разгула. (Так у Кривулина: “Книга Бахтина о Рабле вышла спустя семь лет после того, как было написано это стихотворение, но такое впечатление, будто Сапгир намеренно создавал поэтическую иллюстрацию к идеям карнавальной, веселой смерти в мире, где верх и низ на момент праздника поменялись местами”.)
Иные профессиональные читатели и видят магнитное значение смерти в поэтическом мире Сапгира — и не хотят принимать эту аномалию всерьез. Он-де раблезианец, он-де бахтинствует и дионисийствует, зная все про порождающее и поглощающее чрево, и черт ему не брат. Или еще так, замысловато и витиевато, напишут: “Кто-то говорит, что большая часть стихов Сапгира — это стихи о смерти, но мне кажется, что это нельзя впрямую так транскрибировать, потому что это не стихи о смерти, а это, скорее, стихи о бытии, об ощущении себя человеком, который находится не в той астрономической Вселенной, изображенной на всех картинках, а в какой-то космической, необъятной Вселенной” (Анатолий Кудрявицкий). Или вот так, с намеком на парадокс, но едва ли в соответствии духу поэзии Сапгира: “…мысль о смерти не представлялась ему сферой чисто трагической. Если внимательно вчитаться в „Элегии”, можно уловить, что он видел в ней, пожалуй, желанную форму свободы” (Гавриил Заполянский).