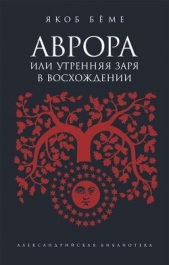Там, где престол сатаны. Том 1

Там, где престол сатаны. Том 1 читать книгу онлайн
Действие романа «Там, где престол сатаны» охватывает почти весь минувший век. В центре – семья священнослужителей из провинциального среднерусского городка Сотников: Иоанн Боголюбов, три его сына – Александр, Петр и Николай, их жены, дети, внуки. Революция раскалывает семью. Внук принявшего мученическую кончину о. Петра Боголюбова, доктор московской «Скорой помощи» Сергей Павлович Боголюбов пытается обрести веру и понять смысл собственной жизни. Вместе с тем он стремится узнать, как жил и как погиб его дед, священник Петр Боголюбов – один из хранителей будто бы существующего Завещания Патриарха Тихона. Внук, постепенно втягиваясь в поиски Завещания, понимает, какую громадную взрывную силу таит в себе этот документ.
Журнальные публикации романа отмечены литературной премией «Венец» 2008 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
5
Допущенная по отношении к смоковнице несправедливость занимала Сергея Павловича не только как повод и основание выразить личное недоверие к Евангелию в целом. Подвергалось сомнению само совершенство воплотившегося Бога. Но несовершенный хотя бы в одном своем поступке Бог теряет право быть Богом и становится всего лишь созданием необузданного человеческого воображения и предметом неоправданного поклонения. Хотелось бы, однако, знать, каким образом Петр Иванович Боголюбов примирил свою веру с напрасно погубленным деревом? Как он толковал на каждом шагу встречающиеся в Евангелии чудеса? Зачатие и тем паче рождение – но без повреждения девства? Лежа в постели и с наслаждением докуривая первую, самую вредную папиросу, Сергей Павлович спрашивал у деда, вполне по-родственному обращаясь к нему на ты: «Я все-таки медик. Я доктор и, говорят, неплохой. И ты хочешь меня убедить, что в это, – придавив окурок о дно стоявшего на полу и заменявшего пепельницу блюдца, он извлек из-под подушки Евангелие, – разумный человек может поверить? – Сообразив, однако, что столь прямая и сильно отдающая площадным атеизмом советского пошиба постановка вопроса способна безмерно оскорбить преданное Иисусу Христу сердце Петра Ивановича, он зашел с другой стороны. – Положим, разумный – неразумный здесь вовсе ни при чем, так как утверждают, что в церковь хаживали очень и даже очень умные люди… Спросим иначе: поверить безо всяких оговорок? Скажем так: вот вера, – и Сергей Павлович предъявил деду Петру Ивановичу Евангелие. – И вот знание. – Тут он кивнул на полку, где рядом со справочниками по терапии, акушерству, инфекционным болезням можно было найти классический труд Ивана Петровича Павлова о физиологии высшей нервной деятельности, превосходную монографию Тареева «Нефриты», «Руководство по ревматологии» Насоновой, а также оттиск кандидатской диссертации хирурга Жени Яблокова, теперь уже доктора наук, профессора, с дарственной надписью: «Сереге Боголюбову на память о нашей дружбе и о вскормившей нас alma mater…» – Их пересечение хотя бы в одной точке есть утверждение веры и доказательство глубины знания. Но где она, эта точка? Укажи мне ее, и я, может быть…» Дед Петр Иванович молчал. «Ну, хорошо, я все понимаю. Ты не можешь со мной согласиться. Не имеешь права как лицо, уполномоченное свидетельствовать о Боге. Но вместе с тем и ты, и тот старичок, чудесный и совершенно неправдоподобный, о котором я никому не говорю, – вы оба должны мне ответить…»
Дверь отворилась, и вошел папа, свежевыбритый, причесанный, в пиджаке черного бархата и ярком шелковом шарфике, призванном скрывать дряблую шею. Острым взглядом третий день не пьющего человека он окинул Сергея Павловича и, заметив в руках у него книгу со словами «Святое Евангелие» на черной обложке, промолвил елейным и потому особенно отвратительным голосом:
– Простите, ваше преподобие, ваше преосвященство, ваше святейшество… Не помешал ли я вашим размышлениям об Иисусе сладчайшем, Иисусе всемогущем, Иисусе таинственном? Ах, ах! Благоухание ладана! Я чувствую, – и папа втянул ноздрями тонкого носа повисшую в воздухе вонь только что выкуренной папиросы. – Но, сын мой возлюбленный, позволь и мне, – с этими словами он взял у Сергея Павловича Евангелие. – На склоне лет, так сказать. Приобщиться. Утешиться. И приготовиться предстать перед неподкупной «тройкой» в составе Отца и Сына и Святого Духа… Аминь. – Полистав книгу, папа откашлялся и, подвывая, прочел: – «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом; и не скажут: «вот, оно здесь», или: «вот, там». Ибо вот, – тут он заблеял, – Царствие Божие внутрь вас е-е-сть.
– Перестань! – свирепо крикнул Сергей Павлович. В одно движение поднявшись с дивана, он выхватил Евангелие из рук папы. – Ваша вторая древнейшая профессия – все осмеивать…
– Позволь, – перебил его Павел Петрович, с откровенным и насмешливым любопытством в карих глазах изучая сына, как некое до сей поры непознанное явление природы. – Не могу поверить. Ты клерикал?! Но в нашем Отечестве, слава Аллаху, клерикализм еще не придушил свободу совести. Это все впереди. А пока я имею право…
Теперь уже Сергей Павлович перебил отца:
– Глумиться?!
Негодование Боголюбова-младшего доставляло очевидное удовольствие старшему. Отступив на шаг и прислонившись к дверному косяку, он объявил, что на занятой им по закону территории никогда не будет спущен флаг абсолютного свободомыслия. Какое, позвольте узнать, Царство Божие внутри нас? Сергей Павлович как врач лучше других должен знать, что внутри нас имеется насос, перекачивающий кровь, проводник пожираемой нами пищи, орган, перерабатывающий ее в дурнопахнущий шлак, и, наконец, та самая кишка, сокращаться которую призывает по утрам герой знаменитого романа… Сокращайся, кишка, сокращайся! Священный процесс дефекации. И все. Обреченная гниению требуха. И утверждать, что в этакой выгребной яме находится Царство Божие?! Папа развел руками. Неужто Создатель не отыскал во всей Вселенной местечка получше? Где бы не так смердело человеком?
Смутное, горькое чувство завладевало между тем Сергеем Павловичем. Ему вдруг стало необыкновенно дорого каждое слово опохабленного папой Евангелия. Его собственные сомнения, его нежелание принимать на веру евангельскую историю, протесты его разума, возмущенные порывы его сердца – все вдруг вынеслось наружу и обернулось… Силы небесные, чем? Гадкой ухмылкой, с которой папа, стоя в дверях, поправлял свой шелковый яркий шарфик.
– Ну-с, к делу, – сухо промолвил папа, и его бритое, с мешочками под глазами лицо приобрело выражение, с каким, должно быть, строгий наставник напоминает питомцу о возложенном на него долге. – Звонила Милка, я сказал, ты еще дрыхнешь, очень просила позвонить. Трезвая. Это, чтоб не забыть. Главное: Рома назначил на одиннадцать, сейчас уже девять. Вставай и поживей.
– Будет письмо!? – воскликнул Сергей Павлович, сию же секунду оправдав папу его изломанной жизнью, а также службой, цинизм которой помогал существовать среди мерзостей советской действительности. И Мила. Трезвая. И, должно быть, одинокая (по крайней мере, в этот час или в этот день), и оттого чувствующая себя всеми брошенной, забытой, покинутой и глубоко несчастной.
Он чистил зубы, брился, стоял под душем и с немалым изумлением отмечал, что ему еще не удалось до конца похоронить в себе тоску по Людмиле Донатовне и что мысль о ней по-прежнему отзывается в нем стеснением сердца и волнением плоти. Нет и нет, твердил он, призывая в помощь память о горечи и опустошенности их последнего лета и в то же самое время с мгновенной дрожью переживая свою с ней последнюю близость – на даче, то ли в Мамонтовке, то ли в Тарасовке, куда она потащила его в гости к Норочке, подруге ближайшей и задушевной. Были там: сама Нора, крупная девка в бараньих кудельках шестимесячной завивки на жиденьких волосах; ее мама, сухая важная дама с часто подергивающимся левым веком; какие-то дети разного пола и возраста, среди которых угрюмой замкнутостью и боттичеллиевским личиком выделялась Анечка, сирота, на пару дней взятая из детского дома… И был еще Викториан Иосифович, старик со всеми признаками сильнейшего склероза и початой бутылкой портвейна в кармане драного пиджака. Среди ночи дом дрогнул от раскатов надвинувшейся грозы. Гулко и мощно гремело, черное небо раскалывали ослепительные молнии, в мертвенном свете которых в саду внезапно возникала из темноты фигура Викториана Иосифовича, прилежно занимающегося гимнастикой. Убогая была у них в ту ночь постель – с тощей подушкой и старым ватным одеялом вместо простыни. Со скорбным чувством погибающей любви он обнимал Милу, всякий раз закрывая глаза при озаряющих комнатку вспышках. «Ты мой? мой? – в лицо ему горячо шептала она и, не дождавшись ответа, лепетала сквозь стон: – Ты мой… мой…» – «Был бы твой», – с давней горечью отвечал ей Сергей Павлович и кричал постукивающему в дверь ванной папе, что еще минута-другая, и он будет готов.