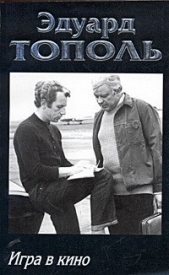Настоящая любовь или Жизнь как роман
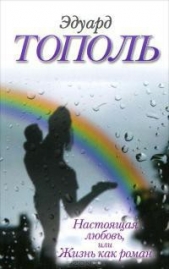
Настоящая любовь или Жизнь как роман читать книгу онлайн
Невыдуманные истории о жизни и настоящей любви.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот подсолнухи — огромные, спелые, лопающиеся от масла в зернах. Ты помнишь, как мы с Мишей полезли за ними и свалились оба в овраг — глубокий и темный. А ты стоял наверху — такой молодой! такой сильный, высокий! — и хохотал над нами. А Миша — ему тогда было десять лет — испугался: «Папа, ты нас тут не оставишь?» Вот эти подсолнухи, прошло двадцать лет, а они все еще горячие и такие же солнечные, как тогда, и хохочут твоим смехом…
А вот маленький натюрморт с банкой огуречного рассола, в котором соленые огурцы плавают, как сонные космонавты в ночной невесомости. Это про него ты сказал: «Не продавай никогда и ни за какие деньги!» — «Почему, Отари? Тут же только фрукты да соленые огурцы в банке!» — «Белла, так огурцы не напишет никто!»
А вот русский пейзаж — со всей дерюжно-весенней печалью российской природы. Ты писал его под Калинином, в Вышнем Волочке…
Белла обходит картины, словно идет по жизни своей, — от сирени, которую она покупала в метро, на рынке, срезала на даче… К арбузам… К шалям… К астрам… К гранатам… Она знает, что не должна, не будет заходить в ту комнату. Нет, конечно, она не зайдет туда!
Но она открывает дверь, и входит, и включает свет.
Здесь, в углу, рядом с темным ночным окном, висит небольшая картина — обнаженная юная натурщица, лежащая на боку, в постели. Этой натурщице не больше семнадцати, она небольшого роста, и у нее удивительно красивая фигурка и теплая кожа. Только нега, доверчивая нега исходит от ее тела, глаз, распущенных волос и маленькой сонной груди. Нет, она не похожа на Беллу, но Белла стоит перед этой картиной и плачет.
Потому что на этой картине — она сама. Такая, какой она была сорок лет назад, когда они встретились с Отари. Рисуя ее, он только чуть изменил лицо…
Она стоит перед этой картиной, утирает слезы с губ и, кусая их, шепчет:
— Отари… Отари… Где наша жизнь, Отари?..
Рассвет начинает сочиться сквозь небольшое окно. Пахнет сирень, которую Отари посадил год назад. Тихий весенний дождь шуршит в листьях и цветах азалии…
Наревевшись, Белла гасит уже ненужный свет, уходит наверх и ложится спать. Иногда, под утро, ей удается уснуть, забыться…
— Знаешь, — сказала она мне, — в последние месяцы я перестала ходить туда одна — и по ночам, и даже днем. Я не могу этого выдержать. Он там… Только когда приходит моя невестка, Женя, она говорит мне: «Ну, пойдем на свидание?» И тогда я иду — с ней.
— А с сыном?
— С Мишей? Нет, он меня туда не пускает. Он идет один, запирается и сидит там часами, плачет. Ну, ты знаешь почему…
Я знаю почему. Миша рос шалопаем, в голове у него были только спортивные машины. Ну и еще водяной матрац — новинка в начале восьмидесятых годов. «Как можно спать в таком мягком корыте?» — сказал я ему, воспитанный на примере спартанского детства Суворова. Миша, черноглазый семнадцатилетний грузино-еврей, крупный, с «накачанной» грудью и плечами, украшенный первыми усиками зрелости над верхней губой, посмотрел на меня с презрением юности: «Вы ничего не понимаете! Пошли, Дайана!» Он посадил свою пятнадцатилетнюю Дайану в пунцово-красную «камару», и низкая, приземистая машина, словно ракета, с ревом умчала их по Вест-Сайд хайвею на юг, в Бруклин, в ночную дискотеку. А мы с Отари по-стариковски устроились на кухне с бутылкой красного вина, с какими-то овощами и холодными котлетами, заготовленными Беллой еще вчера, впрок, чтобы Отари «хоть что-то съел за день!». Самой Беллы почти никогда не было дома допоздна. Она — бывший профессор ВГИКа, она — избалованная московская светская девушка и жена известного художника, члена МОСХа и лауреата всяческих выставок — теперь каждый день тащилась в грязном, вонючем нью-йоркском сабвее вниз, в даунтаун, аккомпанировать знаменитому Жану Пьеру Банфу в театре Баланчина, преподавать в Нью-Йоркском университете и — давать уроки музыки, давать уроки музыки, давать уроки… А вечером, измочаленная в летней нью-йоркской духоте или продрогшая от зимне-бетонной сырости Манхэттена, она возвращалась домой — почти всегда со свежими цветами. «Отари, я купила гвоздики, смотри какие! Почему ты не встретил меня у метро?» — «Но ты же не позвонила, Белла! Мы сидим и ждем твоего звонка!» — «Ах да, у меня не было квотера. Но вы хоть ели тут что-нибудь?»
Конечно, мы ели. Здесь, в Америке, где от жратвы ломятся магазины и где свежие фрукты и овощи даже зимой выпирают на улицу из китайских лавок, эта прежняя, советская неистребимая женская тревога: «Ты ел хоть что-нибудь?» — звучит особенно трогательно. Трогательно и смешно. О нет, господа, я не пишу очередную сентиментальную «Тристан и Изольда» или «Лейли и Меджнун». И, как просила меня в Бостоне одна знакомая, когда я рассказал ей о приговоре моего врача, «не выжимаю слезу». Я просто рассказываю вам о миссии и доле жены художника. Настоящей Жены, с большой буквы. Такой, как жена гениального скульптора Исаака Иткинда, которая в 1938-м, когда Иткинда отправили в ГУЛАГ, поехала за ним в казахстанские степи и через колючую лагерную проволоку передавала ему свой хлеб, чтобы он выжил… Такой, как жена известного литовского художника Семена Шегельмана, — уехав с мужем в эмиграцию, в Канаду, она не разрешила ему шоферить в такси, а пошла мыть полы, чтобы заработать на краски и холсты.
А Белла давала уроки музыки. У меня нет таланта О. Генри, чтобы сделать из этого новеллу с эффектным и неожиданным концом. Это были нормальные для первых лет эмиграции, тяжелые будни. С тем лишь отличием от всех остальных эмигрантских семей, что здесь жена стала кормильцем семьи. Впрочем, и Отари не был эдаким небожителем и белоручкой. Наоборот, он всячески рвался делать что-то еще, кроме картин, он постоянно возился со своим дешевым и разваливающимся от старости «стэйшин-вагэном» — огромным гробом на колесах, в который зато можно было загрузить рамы, подрамники, холсты, продукты, белье для стирки в прачечной… Но стоило вам увидеть его картины, стоило вам войти в его мастерскую, в ту пору узкую, крошечную, полутемную, как вы понимали сразу: этот человек должен только писать, только! Портреты, пейзажи, натюрморты. И жить он должен не среди этих грязно-серых бетонных коробок Верхнего Манхэттена, а на Пахре, в Поленово, в солнечной Грузии.
— Белла, — говорил я, — почему ты увезла его? Ведь у вас там все было. И Отари — грузин, не еврей.
— Да это не я! Это он сам! Ты не смотри на то, как он выглядит дома, в быту. Ты посмотри на его автопортреты. Таким он видит себя — гордым, дерзновенным! Он не мог быть советским рабом! В Австрии на международной художественной выставке его портрет Улановой получил Гран-при, но Союз художников не выпустил его в Вену даже за этим Гран-при! И еще пригрозили: мол, если он будет настаивать, исключат из МОСХа, лишат заказов! Как он мог это стерпеть? Он — фронтовик, получивший два боевых ранения на Кавказском фронте! Ладно, в тот раз я его успокоила. Но потом… Знаешь, у нас, во ВГИКе, была какая-то очередная новогодняя елка. И я, как всегда, пришла с Мишей. Грошев, ректор, ты его помнишь, конечно, увидел Мишу и спрашивает: «О, какой большой парень! Сколько ему лет?» Я говорю: «Двенадцать. Скоро во ВГИК будет поступать». А Грошев посмотрел на меня так и говорит: «Белла, вы же знаете, что это невозможно». Я изумилась: «Почему? Если у него есть способности и если он пройдет творческий конкурс…» «Нет, — говорит Грошев, — неужели вы не понимаете, Белла? У него пятый пункт». Я растерялась: «Но ведь он Шиукашвили, у него отец грузин!» «Извините, Белла, — сказал мне Грошев. — Это не от меня зависит». И ушел! Ты представляешь? Мишин дед, отец Отари, был министром здравоохранения Грузии — он еще до революции был в Грузии врачом, имел огромный дом, а после революции подарил этот дом советской власти, чтобы в нем сделали больницу. Они дали ему квартиру в Тбилиси, а в его доме сделали больницу, но, когда он умер, они выбросили на улицу его семью — и его жену, и Отари. А я? Я двадцать лет проработала во ВГИКе, и мой же ректор мне говорит, что мой сын, будь он даже новым Иоселиани, не может поступать во ВГИК! И вообще — никуда! Только потому, что я еврейка. Ну, могли мы остаться?