Шестьсот лет после битвы
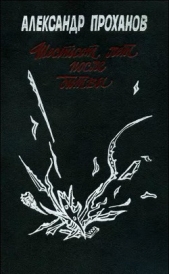
Шестьсот лет после битвы читать книгу онлайн
Роман А. Проханова «Шестьсот лет после битвы» — о сегодняшнем состоянии умов, о борении идей, о мучительной попытке найти среди осколков мировоззрений всеобщую истину.
Герои романа прошли Чернобыль, Афганистан. Атмосфера перестройки, драматическая ее напряженность, вторжение в проблемы сегодняшнего дня заставляют людей сделать выбор, сталкивают полярно противоположные социальные силы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ее душа напряглась. Ее мысли — об отце, о матери, о себе самой — были неясны, мгновенны. Ей было сладко. Что-то страшило и мучило. Казалось, там, на горе, у мягкого белого облака, кто-то невидимо ее поджидает. Она — в его власти. Он, упрятанный в белый туман, влечет, призывает ее. Проводит сквозь упрямое, слепое стремление, гонит их ввысь. Она и рыба в едином потоке идут на единый зов.
Заросли кончились. Луг в голубых цветах. Проблеск текущей воды. Колыхание цветов. Брызнуло солнце. Пронесло ком тумана. Открылось море. И в ней внезапный восторг, нежность, любовь к морю, к цветам, к белой гриве тумана. Такое стремление понять, услышать, обнять эти дали, полететь, стать воздухом, светом, туманом. В ответ на это стремление брызнули из неба лучи, из синих мокрых цветов вырвались яркие рыбины, застыли в фонтанах воды, замерли на мгновенье, окруженные брызгами. И то ли обморок, то ли прозрение: вся ее жизнь до последней черты и дальше, в чудной бесконечной дали, открылась ей, и она стала владычицей мира, окружая его своей нежностью и любовью.
Промелькнуло и кануло. Снова луг в бегущей воде. Синее шевеленье цветов. Опадающие, плюхающие тяжелые рыбины.
Несколько дней и недель она вспоминала об этом. Гадала, не могла отгадать — что случилось с ней на горе. Боялась об этом спрашивать. Боялась об этом забыть. Ждала повторения. Снова пошла на гору, надеясь, что оно повторится. Горбуша закончила нерест. Рыбины отметали икру, умирали в воде. Вода тащила вниз бессчетные, распухшие, ободранные рыбьи тела. Они застревали на перекатах, в корягах, раздувались, источали зловоние. Горы пахли тухлой рыбой. Вода текла мутная, зловонная, густая, как нефть, в разводах рыбьего жира. И не верилось, что здесь, на горе, с ней случилось несказанное чудо.
Антонина лежала, вспоминала мать, отца, тот год, когда отец получил назначение на материк, на другую заставу, в сухую, горячую степь.
Стальная вышка, домик казармы, сильные, быстрые люди в пятнисто-зеленом. То бегут неутомимо с собакой, пуская ее впереди на длинном тугом поводке. То вскакивают за руль ребристых рычащих транспортеров. То направляют в черную ночь синее пылающее пламя прожектора. И везде среди них — отец, загорелый, бодрый и деятельный. Его внезапные появления дома. Его внезапные исчезновения в ночи.
Степь, сухая и блеклая, без травинки, с круглым сверкающим блюдом солончака, с голубым драгоценным озером, горько-соленым, в белой оправе соли.
Она любила уходить на заставу, бродить вдоль белой кристаллической отмели. Нагибалась, рассматривала мельчайшие разноцветные вспышки, где вдали, за озером, толпились чужие горы, островерхие, в складках, как каменные шатры.
Отец собирался в отпуск, на этот раз в Москву, ради нее, дочери, которой, как он говорил, пора показать столицу. Показать Кремль. Третьяковскую галерею, театры. И как только она об этом услышала, все ее дни стали непрерывным ожиданием Москвы. Москва и отец, не мать, а почему-то отец. Она и отец идут вдоль кремлевских стен. Она и отец смотрят картину, где молятся перед смертью стрельцы. Она и отец поднимаются по белым ступеням к колоннам Большого театра. Москва приближалась к ней с каждым днем, возникала во сне, являлась наяву среди сожженной степи, каменных складчатых гор.
Та горячая, душная ночь. Ее пробуждение в ночи не от звука и голоса, а от больного испуга во сне. Мать в белой рубахе, босая, стоит на полу. Отец быстро, цепко застегивает портупею, урчит мотором невидимая машина. Так и запомнила два их стремления. Матери в белой рубахе — к отцу и отца в портупее — в ночь, в открытую дверь.
Снова заснула, и второе ее пробуждение, утром, от тонкого крика, зародившегося во сне, прорвавшего сон, превратившегося в долгий нечеловеческий вопль. Кричала мать, в дверях стоял офицер, заместитель отца, в каске, в пятнистой одежде, и лицо его было осыпано пылью и мельчайшей белой солью. В материнском крике, в долгом из единых гласных вопле звучало бесконечно, много раз повторяемое, тягучее: «У-у-уби и-и-ит!»
Ночью нарушители, много, с оружием, перешли границу.
Их обнаружили, окружили, загнали на сопку. На рассвете был бой. Сверху бил пулемет. Отец повел за собой солдат в атаку и недалеко от вершины был убит, он и несколько других пограничников. Остальные достигли вершины и в короткой жестокой схватке уничтожили нарушителей.
Так говорил офицер, чье лицо было засыпано пылью, в мельчайших порошинках и кристалликах соли.
Отца и убитых солдат сразу, минуя заставу, увезли в городок. Туда же уехала мать. А она, Антонина, оставшись одна, понимая, что случилось огромное горе, непоправимое, на всю остальную жизнь, испытывала не боль, не страдание, а слезное недоумение: неужели отца не будет уже никогда? Он исчез, ушел из этого дня, из этой степи, из этого синего озера, хотя в шкафу висит его рубаха с оторванной пуговицей, на столе лежит тетрадка с неоконченной записью, а в ней, в Антонине, в ее зрачках недавнее ночное видение: отец в порт) пее в резком, крутом движении устремился к дверям. Неужели теперь ее жизнь навсегда, до старости, без отца?
Это изумление, непонимание было столь сильным, столь глубоким, что для боли и горя в эти первые мгновения не было места. Горе и боль были рядом, но ждали, когда исчезнет в ней это слезное недоумение.
Тот пыльный городок с пожухлой листвой. Похороны убитых в бою пограничников. Вертолеты в реве и свисте садились на голый пустырь, подымая серую пыль. И в эту пыль, в металлический свист из открытых дверей выпрыгивали, выпадали родственники убитых. Ветер от лопастей рвал черные платки и накидки, сдирал н катил шляпы. И все они, сбившись, хватаясь один за другого, бежали, гонимые жестким, секущим ветром, собравшим их из русских селений, кинувшим в эту голую, душную степь.
Брезентовая, туго натянутая палатка. На деревянных козлах красные обитые кумачом гробы. В палатке красно от гробов, словно горит огромный страшный фонарь, освещает убитых. Их твердые, окаменелые лица. Белые, в выступах и складках покрывала. Барабанами, тарелками, трубами ухает военный оркестр.
С криком, стоном, продираясь сквозь полог палатки, вбегали приехавшие, замирали на миг ослепленные, начинали метаться. Не тот, не тот. И вдруг с воплем падала мать на твердое тело сына, лицом на лицо. Жадно шарила руками. Целовала вслепую лоб, закрытые глаза, склеенный рот. Щупала под белой накидкой тело.
— Ой да ты, Петенька, сыночек мой, надежда моя первая и последняя!.. Ой да ты мой милый, ты мой золотой!.. Твои милые глазоньки закрылися!.. Почему ты маменьку свою да и не встречаешь?.. Что они, изверги, с тобой понаделали?.. Да какой же ты стал большой, что даже в гробик не влазишь!..
Ты писал, что у тебя чуб растет, а они тебя всего исстреляли!.. Покраснели твои губоньки от моих слез!.. Тетка Анна наказывала посчитать, сколько у тебя ран!.. Да где же есть на свете мир, покажите мне такой уголочек!.. Увезу я тебя туда, мой сыночек!.. Ой, да я думала, что тебя не узнать, а я тебя сразу узнала!.. Дай я посмотрю твои рученьки, как ты ими отбивался!.. Как же ты, должно быть, мучился, губоньки твои покусаны!.. Да какая же у нас случилась беда!.. Ой, да и у меня нету сил!
Падала бездыханно на сына. Солдат с кружкой вливал ей в рот холодную воду. Приводил в чувство.
Антонина стояла у брезентовой стены палатки. Смотрела, как в красном свечении близко, накрытый белой тканью, лежит отец. Знакомое, родное, но уже отнятое, не ее, не для нее существующее лицо. Русая, влажно причесанная прядь. Прямой, строгий нос. Плотные, недовольно поджатые губы. Округлый, с маленькой ямочкой подбородок. Все знакомо, все живо, и можно еще подойти, обнять — и словно бы нет смерти, все только кажется и скоро пройдет, вернется к тому, что было. И это уханье меди, и рыдания, и материнские, как мел, щеки с черной каймой платка, — все минует. И они поедут с отцом в Москву, и будет Третьяковская галерея, и они поднимутся по белым ступеням к колоннам Большого театра. Все будет так, как задумано, как было два дня назад. А это исчезнет — эти кумачи, дощатые козлы, блестящая головка гвоздя, бинт на голове у солдата, мятая фетровая шляпа, упавшая из рук старика, материнское несчастное из-под черной накидки лицо, ее шепчущие губы, повторяющие: «Ванечка!.. Ваня!»
























