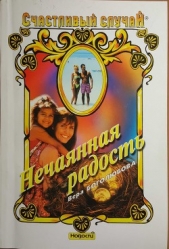Новый мир. № 2, 2004
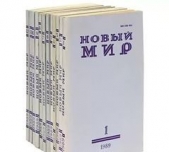
Новый мир. № 2, 2004 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Этот горделивый голос (он возносится в книге еще не раз) после произнесения первых стихов вдруг стихает, делает паузу. Кажется — лишь затем, чтоб передохнуть и продолжить восхождение, звеня и нарастая. Но когда он раздается вновь (в первом цикле книги — «Двор на Баррикадной»), то предстает перед нами настолько изменившимся, что узнать его трудно.
Речь не то чтобы снижается, но — скажем так — заземляется. Чтоб тут же подняться — невысоко, впрочем: до верхней ступеньки «веревочной лестницы». Как будто нам явили библейскую декорацию (мастерская Караваджо, холст, масло), а сразу после этого показали детский карандашный рисунок.
В строгих четких линиях первых стихотворений узнается многое — и обычность общей судьбы предвоенного поколения (скудость быта, война, эвакуация), и особость частной судьбы. Елена Аксельрод родилась в семье художника (как Пастернак). Отец ее — замечательный живописец Меир Аксельрод, выпускник ВХУТЕМАСа, младший современник Фалька и Петрова-Водкина. (Он, помимо всего прочего, писал — в соавторстве с Иосифом Шпинелем — эскизы фресок для фильма Эйзенштейна «Иван Грозный».) Мама и отец переехали в столицу из черты оседлости. В этой семье родители очень любили друг друга и любили дочь, и, судя по всему, детство Елены Аксельрод — бедное предвоенное детство («ветхий ватин» да «реденькая байка») — было счастливым. Отсвет этого счастья падает на ее стихи. Посвященные отцу, посвященные детству, посвященные первым художественным впечатлениям (благодаря отцу появившимся довольно рано), они насыщены живописными и графическими ассоциациями, в них наравне с родными и друзьями присутствуют любимые художники — Эль Греко, Сезанн, Ван Гог…
Этот праздник в каморке, однажды широко начавшись в детстве, пребудет с ней и дальше, навсегда — во всех каморках, комнатах и палисадниках ее жизни. Когда она видит розовое небо Крыма — в нем вспыхивают виноградники в Арле. Черно-белый пейзаж Прибалтики в марте отсылает к любимой графике, а в нью-йоркском парке она замечает «перламутровый воздух Коро». Этот праздник способен наполнить любое пространство, даже, например, пространство коммунальной ванны, и любую тему, даже если она далека от радости (вот стихи о том, как соседи по коммуналке приносят домой живую рыбу, чтоб потом ее убить и изжарить):
Видно, что сквозь этого сазана пятнисто просвечивает Сезанн.
Рисунок в стихах Елены Аксельрод всегда сделан решительной рукой. «Мне есть в кого счастливой быть. / Дай силы мне, Господь, / И ясность красок перенять, и линий чистоту». Но у «прекрасной ясности» и твердого нажима существует другая сторона — этим стихам порой недостает недосказанности.
Лирика Елены Аксельрод отчетливо сюжетна. В основе многих ее стихов лежит конкретная история, случай. Это стихи как бы на случай — не хочется писать, что они «случайны», но они часто так случаями и остаются, обращенные к конкретным адресатам. Личные обстоятельства и истории — они ведь у каждого из нас свои, не для посторонних. Не то чтоб эти стихи «не поднимаются над обстоятельствами» или «не достигают обобщения» — это не совсем то. Хорошо сказала сама Аксельрод: «В траве мой ремешок, / а я над ним, я над / Несбывшейся судьбой, / незрячестью своей». Вот это «над» иногда удается ей, а иногда нет. Скажем так: многие стихи ее — это «песни зябких муз». И Давид Самойлов как будто про них написал: «Не торопи пережитого, / Утаивай его от глаз. / Для посторонних глухо слово / И утомителен рассказ. / А ежели назреет очень / И сдерживаться тяжело, / Скажи, как будто между прочим / И не с тобой произошло».
Как ни странно, лучшие стихи — те, в которых она признается, что слово произнести невозможно; стихи о несказанном.
В «Избранном» хорошо заметно, что стих ее пленителен, когда он вопросителен, когда ответы как бы раздваиваются и мерцают.
Или вот это:
Ее дар являет себя в полную силу, когда звучат ее излюбленные скользящие мотивы — переплетения, срастания человеческого и древесного, человеческого и растительного. «Но сплетались в сизых просветах / Руки яблонь с руками людскими. / И была я одной из веток, / И носила людское имя». Как будто рядом с жизнью людской, — еще определеннее: рядом с жизнью женской, где все названо, пришпилено словом и слишком лишено тайны, медлительно проходит другая жизнь — древесная, шумящая, и в сплетении ветвей, корней, побегов словно еще есть первобытная таинственность. Вот стихотворение «Загадочная картинка». Героиня всматривается в узор нагих ветвей — и видит, что в этом узоре прочитывается некий личный сюжет. А дальше получается, что в этом рисунке есть еще что-то помимо узнаваемых деталей — и вот это «что-то» важнее всего — и не нужно расшифровывать смутный смысл этого древесного послания. «Загадочная картинка — / Что она означает? / Может, в сплетении веток / Та сторона бытия? / Как они изогнутся, / С кем окажусь я рядом — / Так ли все это важно? / Лишь бы стояло дерево / И рисовало загадки / Тонкими карандашами / На ватмане голубом».
Как мы уже видели, муза Елены Аксельрод — не муза гнева; скорей печали. Впрочем, бунтарство ей свойственно — и, как утверждает автор, с детства: «Воюя с набегавшим сном / И пряча слезы в одеяло, / Еще не ведая о чем, / Я плакала и бунтовала».
Елена Аксельрод последние годы живет в Израиле. «Израильским» стихам (израильским в географическом смысле) ее неистовство как раз очень подходит. Едва ли не библейская исступленность (которая и раньше возникала в стихах Аксельрод) развернулась здесь до предела: многие стихи — это стихи-молитвы, стихи-заклинания, стихи-плачи. Но вот парадокс: этот торжественный голос часто произносит бунтарские слова. Как будто устами поэта говорит богоборец Иаков (стихотворение про жертву Авраама и многие другие). Она задает очень много неуютных и неудобных вопросов. И это не потому, чтобы она стала гневливее или обидчивей («судьба моя в глаза глядит обидчиво»). Кажется, Елене Аксельрод и самой неуютно в своей вере-неверье — это какое-то не ее состояние. И поздние стихи ее звучат словно еще одна, поздняя, молитва — что-то вроде «Приди на помощь моему неверью». Впрочем, там, кажется, есть и другое, новое для нее — растерянность перед непонятным и ужас перед неизбежным; то, что на язык реминисценций можно перевести как «о, бурь заснувших не буди»: