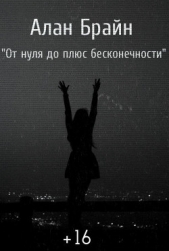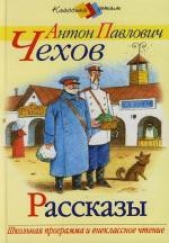Пилюли счастья

Пилюли счастья читать книгу онлайн
Книга основана на реальных фактах и подлинных письмах и дневниках. Героиня книги, Нина Сюннангорд, жена издателя из маленького шведского городка и мать троих маленьких сыновей, появилась на свет в городе Ленинграде — за несколько месяцев до Великой войны, а, стало быть, и до Великой блокады. И звали ее тогда Нина Тихвина. Уехав из России, она, казалось бы, обретает другую жизнь. В нынешней благополучной и тихой жизни ее не оставляют воспоминания о детстве в послевоенной перенаселенной питерской коммуналке. Молодость смешлива, самонадеянна и беспечна! До чего же весело было ей ходить в студенческие походы и не замечать, что по пути туристических маршрутов, в двух шагах от них, гниют в белорусских болотах кости ее расстрелянных бабушки и дедушки, двоюродных сестричек и братиков… Потом в ее жизни была пустыня Негев в Израиле — в России, сравнивает Нина, в лучшем случае потянула бы на засушливую степь. Где-то там — ее взрослый сын, свидетель ее прежней жизни. Действие романа переносится из Европы — в Израиль — и в Санкт-Петербург. Дух гениев, живших и творивших в Петербурге, властвует здесь поныне, но. как ни старался Достоевский живописать неизбежность унижения и оскорбления, люди не желают в это верить. Человеку нужна надежда… Но где же эти ПИЛЮЛИ СЧАСТЬЯ, которые позволят забыть о том, что мерещится во мраке зимнего дня, в мороке сумеречного сознания?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Под Новый год пришла открытка от Анны-Кристины. Собирается к нам, почитает своим долгом навестить Мартина. Давно бы приехала, да сама совсем расхворалась. Сейчас получше, так что на днях выезжает. Если Эндрю обещает встретить ее на станции, то она захватит несколько баночек маринованных грибочков, очень уж они в этом году удались. Такие крепенькие и ровненькие – один в один.
Хорошо, хорошо, что выезжает. Я рада. Это облегчит ситуацию. Глядишь, и с Мартином посидит, и с детьми поможет. Мальчики после нашей летней поездки нет-нет да и вспоминают тетку. Наверно, поладят с ней – почему бы и нет? Родной, понятный, душевный человек.
А я отдохну немного. Хоть немного отдохну… Может, даже отважусь проглотить заветную таблеточку. Позволю себе такую вольность – погружусь на сутки в блаженное беспамятство, усну без всяких снов и кошмаров. Забуду, что было допрежь сегодня. Чего так уж бояться? Необходимо ведь хоть один раз выспаться по-настоящему. Какой от этого может быть вред?
Материальные предметы, по мере нашего удаления от них в пространстве и во времени, склонны увеличиваться в размерах. Вот тот же самый, с детства знакомый коридор, но как растянулся за время моего отсутствия – километры, километры! Завален, как всегда, всякой рухлядью, по-прежнему ершится остатками ободранного в войну паркета, но бесконечен и безграничен… Горы почерневших керосинок, детских ванночек, помятых корыт, дырявых ведер, безногих табуреток, рассохшихся раскладушек, драных одеял, из которых торчат клоки свалявшейся и пожелтелой ваты, и многого, многого другого, не менее мерзкого и удушливого. И электричество экономят по-прежнему: все та же одна-единственная тусклая и засиженная мухами лампочка Ильича свисает на закопченном шнуре над разбухшим до вселенских масштабов развалом коммунального хлама. Хилое блокадное дитя, хватаясь иссохшей ручонкой за попадающиеся навстречу предметы, пробирается из комнаты в кухню. Привычный ежедневный маршрут – в облаке керосинного чада, вдоль липких от грязи и сырости стен. Умильная картина!
Мальчик, замурзанный и посинелый от холода. С запиской в ручонке – подайте грошик. Копеечку какую-нибудь, выигрышный билетик. Нельзя, миленький, невозможно! Ведь если подать тебе этот грошик, так и вся фабула улетучится. Не останется ничего… За что же тогда жалеть бедного Макара? Нет, заботливый и участливый автор иначе решил нашу участь, давно все обдумал и последнюю черту подвел окончательно: если и отпустит единоразово на счастливую прогулку на острова, то лишь затем, чтобы после яснее указать на отставшую подошву и бедную матушку… Нет, нипочем не допустит никакого облегчения – проследит, позаботится, как вручить тебе насморк и желтый дом…
Дитя явилось, чтоб вступить в права наследства. Надеялось избежать, позабыть и отречься, но не посмело. Некий голос предостерег: не вздумай отрекаться. Если и ты отречешься, то что же от всех нас останется, кроме капли расплавленного олова?..
Только с кем же тут обсудить договор, вступить в переговоры? Ни единой живой души… Неужели и вправду городские власти затеяли капитальный ремонт? Тогда почему же не потрудились выкинуть весь этот мусор? Ведь нужно же и паркет привести наконец в порядок…
Мама сидит на кровати, отец широкими твердыми шагами меряет пространство от двери до стола и обратно – шумно вздыхает, словно собирается приступить к какому-то важному разговору, да все не решается. В руке пожелтевший, мелко исписанный листок. Останавливается наконец посреди комнаты, кидает листок на стол и пришлепывает ладонью.
– Откуда это у нас? Кто это мог оставить?
– Что, Сереженька? – любопытствует мама.
– Эту контру!
– Покажи-ка, – просит мама и, не выдержав, сама поднимается и заглядывает в листок. – А, ну ты бы сразу спросил! Я думаю, это Гриша Немировский. Помнишь его? Работал журналистом в нашей областной газете. Ну конечно, это его почерк. Я уверена. Такой был ужасный выдумщик!
Темно-коричневое трикотажное платье замечательно идет к ее пышным рыжеватым волосам. Она бодрая, молодая, подтянутая, уверенная в себе. А отец… Отец, в общем-то, такой, как обычно: невеселый и молчаливый.
– Наверно, вложил в мои конспекты, – размышляет мама. – Чтобы я после дома нашла и прочитала. Вот чудак! Он, между прочим, перед войной был весьма известен. Сережа, неужели ты не помнишь? Ты должен помнить. Поэт и журналист – Григорий Немировский! Его дедушка действительно был из Немирова.
– При чем тут дедушка! – злится отец.
– Ах, мой дорогой! – кокетничает мама и лукаво прищуривается. – Ты потрясающе наивен. Абсолютнейший младенец! Не все же девичьи секреты открываются мужьям! – Но вдруг умолкает и задумывается. – Ты знаешь, он ведь погиб на фронте, не то в сорок третьем, не то в сорок четвертом. Так что все это уже не имеет никакого значения…
– Ну нет! – говорит отец. – Тут-то ты определенно ошибаешься. Именно теперь это все приобретает особенное значение.
Я подхожу к окну и выглядываю наружу. Улица – весенняя улица, тихая и влажная, ни людей, ни машин. Не проведенная по линейке, как большинство ленинградских проспектов, а изящно, томно изогнувшаяся вдоль набережной. Кроны деревьев почти касаются окна, клейкий запах только что лопнувших почек… Я вдыхаю этот запах, цепенею, задыхаюсь от него, падаю грудью на подоконник и заливаюсь слезами.
А когда отрываюсь наконец от окна, не вижу уже ни буфета, ни маминой кровати, вообще ничего… Комната пуста и еле освещена уличным фонарем. В углу, за отцовским столом, разместились трое. Темные капюшоны надвинуты на глаза. Напрасно, напрасно они пытаются спрятаться, я все равно узнала их. Кто же их не знает? Три величавые фигуры, три мужа, вершащих грозный беспристрастный суд.
– Вам предоставляется право последнего желания, – возвещает сидящий в середине.
Желания?..
– Ну что же вы? Пожелайте же чего-нибудь, – настаивает елейным голоском его сосед справа.
– Не стесняйтесь! – подбадривает третий. – Ведь чего-нибудь вы, надо думать, желаете? Все чего-нибудь желают…
– Да, – отвечаю я. – Желаю. Верните мне эту комнату.
– Эту комнату? Только и всего? – доносится едкий смешок из-под левого капюшона. – А больше ничего?
– Больше? – удивляюсь я, слегка отступаю назад и вновь обвожу пустую комнату долгим недоуменным взглядом. – Нет, больше ничего… Да и этого, собственно… – То ли из-за их присутствия, то ли по какой-то иной причине комната вдруг становится совершенно чужой и ненужной. Совершенно бессмысленной и неважной. – Нет, больше ничего. Да и этого… не надо. Вот только, если уж так получилось… Если вы все равно… Если уж, как говорится, довелось повстречаться… Меня это давно смущает – насчет мундира, помните, пуговки?
– Не помню! – отшатывается он. – Не помню никакого мундира и никаких пуговок!
– Ну как же – я это сто раз читала, можно сказать, наизусть выучила. У меня мама больная была, без ног – то есть ноги-то были, да распухли, как ведра, не могла ходить, я около нее сидела, вот тут как раз ее кровать стояла, у этой стены… Она любила, чтобы я читала. Особенно в последний год, когда уже совсем не вставала. Не только ноги, совсем уже вся разбухла. Знаете, отвар из еловых игл… Я рассказывала… Вредное зелье. Кто-то постановил, чтобы пить, дескать, в этих еловых иглах все необходимые человеку витамины. Наверно, даже не врач, чиновник какой-нибудь – чтобы хоть видимость была какой-то помощи. Может, он и не виноват – не особенно виноват. Я его не осуждаю, он, наверно, так рассуждал: все равно им помирать, так пусть хоть надежда у них останется, хоть мнимая, а все же согреет… Не сердитесь, но эта сцена, с мундиром… Такое впечатление, что вы это нарочно утрировали – чтобы пожалостливей вышло. Вот – возьмем уж мы его, Макара Алексеевича, двумя перстами за шкирку и выставим на всеобщее обозрение! Причем именно в тот момент, когда он даже и умыться не успел, когда одна нога в штанине, а другая вовсе снаружи – а ведь нижнего-то белья и не водится!.. Господи, ведь это – как же это и назвать-то прикажете?.. Тут лучше бы не заметить, отвернуться, обойти молчанием. Понятно, сюжет, замысел, защита прав человека. Но ведь и уважение надо иметь к публике. Зачем же так ярко подчеркивать позор и убожество? Можно бы как-то поприличнее, поделикатнее. Если уж такая дружба, и переписка, и милостивый государь, и все эти нежности, то почему бы не подлатать несчастный мундир? Подлатать, и дело с концом. Ну, хоть бы и лоскутики какие-нибудь под локотки подшить – если уж прохудились, светятся локотки. Люба, я думаю, обязательно подшила бы, придумала бы, как скрыть посрамление. А то ведь вся репутация потеряна, весь человек пропал… Уж пуговки-то, вы меня извините, совсем несложно закрепить – чтоб не болтались на одной ниточке, не обсыпались чуть что. Чтобы не ползать за ними по полу. Это даже и я смогла бы. Ну хорошо, ну, на обед она его пригласила – это трогательно, благородно с ее стороны, но почему бы заодно и пуговки не пришить? Швея ведь, иголка всегда при ней…