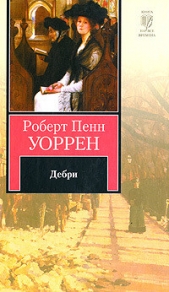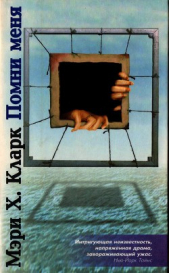Момемуры

Момемуры читать книгу онлайн
Я пишу это в Олстоне, графстве Мидлсекс, на берегу Атлантического океана. Хотя сказанное — очередная печать стиля, так как никакого океана ни из одного из семи окон моего апартамента не видно; и дабы начать лицезреть тусклое пространство воды в скучной оторочке осенних пляжей и поставленных на прикол яхт, надо проехать, по крайней мере, миль 15, не менее.
Но я действительно здесь, куда никогда не хотел ехать синьор Кальвино, о чем сделал соответствующую надпись на козырьке растрепанной географической карты Северной Америки в главе «Островитяне».
Я же, чтобы меня не увело опять в неизбежные дебри, должен сказать, чем отличается новая редакция, выходящая сегодня в нью-йоркском издательстве Franс-Tireur, от журнальной, опубликованной в четырех номерах «Вестника новой литературы», начиная с пятого, украшенного бравурной красной лентой Букеровского приза. Изменений в тексте немного: в рамках рутинного превращения в экзотику всего русского Энтони Троллоп стал Салтыковым-Щедриным, незабвенная Джейн Остин — Верой Пановой, кореянка Надя Ким — сибирячкой с густым несмываемым румянцем во всю щеку и т. д.
Плюс любимая писательская игра по ловле блох — тех орфографических ошибок, с которыми так и не справилась ни лучший редактор всех времен и народов Марьяна, ни чудная пожилая дама с абсолютной грамотностью, порекомендованная мне Мишей Шейнкером. Сложная ветвистая фраза, очевидно, обладает возможностью до последнего таить самые очевидные ошибки в тени стилистической усталости.
Но самое главное, «Момемуры» выходят тяжеловооруженные самым продвинутым аппаратом: два авторских предисловия, статья об истории написания романа, статья от комментатора имен, разные списки сокращений и — самое главное — роскошные, обширные комментарии. Их писали четыре разных человека, обладающие уникальным знанием о том, о чем, кроме них, сегодня уже почти никто ничего не знает, а если знает, не напишет — о К-2.
Надо ли говорить, что они были прототипами моих разных героев, или, по крайней мере, упоминались в тексте романа, почти всегда под придуманными никнеймами? Да и сама идея издать «Момемуры» с пространными комментариями, иконографией, иллюстрациями, даже DVD с музыкой, которую мы тогда слушали, и картинами, которые мы смотрели, также принадлежала тем героям романа, которые были моими друзьями до его написания и, конечно, после. (Хотя количество тех, кто обиделся на меня на всю жизнь, причем, имея на это множество оснований, поделом, как, скажем, Алекс Мальвино, таких тоже было немало.)
Алик Сидоров хотел выпустить десятитомное издание «Момемуров», чтобы роман превратился в игру: жизнь в подполье, полная неизведанных наслаждений, борьбы с КГБ, ощущения запойной свободы, которой больше не было, ну и кайф от творчества — поди, поищи такой.
Увы, даже наш Алик вынужден был подкорректировать замысел – не пошла ему перестройка впрок, не похудел, не побледнел, как-то обрюзг, разбух и давно уже согласился, что том будет один (самое большее — два), но с подробными комментами, фотками прототипов и серией приговских монстров из «Бестиария». Ведь именно он, на свои деньги, послал в Питер того самого лопуха *уевского, о котором упоминает Боря Останин в своей статье.
Но что говорить — нет уже нашего Алика, нет и Димы, то есть они есть там, в переливающемся перламутром тексте «Момемуров» (а я совсем не уверен, что перламутр лучший или даже подходящий материал для воспоминаний); но, к сожалению, данное издание будет без фотографий прототипов героев и их версий в «Бестиарии». Но и то немалое, что есть, стало возможно только благодаря Сереже Юрьенену, который взял на себя труд публикации сложнейшего текста.
Что осталось сказать? Я лучшую часть жизни прожил с героями «Момемуров», они научили меня почти всему, что я знаю, пока я, хитрый и хищный наблюдатель, исподволь следил за их жизнью. Благодаря им, я написал то, что написал. И сегодня кланяюсь им всем, даже тем, кто вынужден был взять на себя роли отрицательных персонажей или, точнее, героев с подмоченной репутацией. Но, конечно, главная благодарность им: Вите, Диме, Алику — синьору Кальвино, мистеру Прайхову, редактору журнала «Альфа и Омега». Если в моем тексте присутствует то, что некоторые остряки называют жизнью, то это только потому, что у меня дух замирал, пока я поднимался по винтовой лестнице очередной неповторимой, сделанной на заказ натуры – и восхищался открывшимся с перехода видом!
Поэтому я думаю, что мой роман о дружбе. То есть само слово какое-то мерзко-советское, хреновое, с запашком халтурных переводов по подстрочникам и дешевой гостиницы на трудовой окраине, но мы были нужны и интересны друг другу, и, это, конечно, спасало. И то, что этот хер с горы Ральф Олсборн позвонил-таки из таксофона в вестибюле филармонического общества Вико Кальвино и договорился о встрече, а потом понял, с каким редкоземельным материалом столкнулся, за это ему можно, думаю, простить и ходульность, и гонор, и дурацкий апломб. Не разминуться со своей (так называемой) судьбой — разве есть большее везение?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И — поторговавшись для вида — Трика стал давать показания. И сразу все переменилось. Когда стало понятно, что пути назад нет, ему отдали все те посылки и деньги, что скопились к тому времени. Трика торговался до самого конца. Ставил условия. Он говорит все, что от него требуют, все до мельчайших подробностей (тех, что он, конечно, помнит), пишет покаянное письмо или заявление, а может быть — даже текст телевизионного выступления. За это его выпускают на свободу, устраивают на работу по специальности (театральным или кинорежиссером) и оставляют в покое. Он боролся за то, чтобы ему обещали, что у людей, которых он назовет, не было со стороны органов неприятностей. А в заявлении, которое было впоследствии опубликовано в одной столичной газете, не был упомянут ни один из живущих сейчас ни в метрополии, ни в колониях литераторов. По сути дела весь восьмимесячный срок, проведенный в Лефортово, был потрачен на редактирование опубликованного впоследствии подвала в «Вечерней газете». Писал Трика все сам; отдавал следователю; а на следующий день ему возвращали ксерокопию его текста с разноцветными редакторскими пометками. Вопросы, галочки, подчеркивания, волнистое недоумение, короткие ремарки и так далее. Он писал заново, сам торопясь закончить быстрее нудную работу и забыть этот кошмарный сон, отсыпался, думал о будущем, для развлечения кропал по просьбе соседа по камере порнографический рассказ, впоследствии реквизированный и вошедший в тайную библиотечку для тюремного начальства. Трика не знал, что следствие с самого начала было в весьма щекотливом, незавидном, почти катастрофическом положении. Мало того, что уже после ареста они поняли, что взяли совсем не того — среднего литератора, ничем по сути себя не скомпрометировавшего. Даже по их меркам, ничего особенно криминального в его действиях не оказалось. Обыски совершенно ничего не дали. Не удалось добыть рукопись того единственного полукриминального-полушаловливого романа, опубликованного как раз во время следствия в «Материке». Политический процесс не вытанцовывался. На уголовный тоже ничего не тянуло. Как ни искали, — какой-нибудь ошибки, проступка, нелегального способа зарабатывания денег, подчистки в документах и тому подобное, что должно было подчеркивать нечистоплотность их клиента, — ничего найти не удавалось. Поэтому не довести дело до суда, склонить его на полюбовное соглашение — было для них делом чести, единственным приличным способом выйти сухими из воды. Если бы Трика знал, как нелегко давалось его следователям спокойствие, ибо их постоянно трясли, торопили и накачивали; знал, что никто из свидетелей не дал против него никаких показаний, и, значит, следствие на грани срыва. Если бы он знал, что почти сразу после его выхода из тюрьмы, будет объявлена амнистия, под которую, так получалось, попадал бы и он. Если бы Трика знал, что его не забыли, что, пока он сидел, опубликованы лучшие его вещи с самыми лестными для него предисловиями, благодаря западным передачам его имя у всех на устах, может быть, Трика поступил бы иначе, хотя не менее возможно, что он поступил бы так же, ибо гадать об этом то же самое, что пытаться разглядеть свое отражение в блестящем хромированном ободе вращающегося велосипедного колеса судьбы.
Когда он, подписавший последний протокол, вышел сквозь ослепительно сверкающий прямоугольник света, то ощутил три быстрых сильных удара по глазам. Первым, как Бернамский лес, двинулся на него задний план в виде неестественно ярких зеленых куп деревьев с влажно-изумрудным сиянием; затем, торопясь, оглушительно шелестя шелковым платьем и на ходу быстрым незаметным движением поправляя чулок, прямо в омут дребезжащей улицы с гудением машин и фырчанием моторов кинулась рослая русалка с развевающейся гривой волос — он протянул руку, у него перехватило дыхание, но в следующее мгновение она уже выходила на берег противоположного тротуара живая и невредимая; и тут он чуть было не споткнулся о странное, жирное диковинное существо с огромными белесыми усами и вертикально растянутыми зрачками — он не испугался, пытаясь вспомнить, что это такое — недовольно мяукнув, облезлый толстый зверь скрылся в черном зеве ближайшей отдушины.
Как вытащенный из воды утопленник, целый день он заново открывал для себя жизнь и радовался неожиданным сюрпризам — дивному строгому и глянцевитому запаху, исходящему от впервые увиденной собственной книжки, изданной «там»; новому, забытому вкусу роскошной домашней стряпни на раздвинутом, как в праздник, столе; звуку голосов друзей и приятелей, которым он без всякой утайки до ночи рассказывал о всем пережитом, счастливо булькая и причмокивая губами, ощущая себя вернувшимся домой после рискованного и затянувшегося путешествия.
Друзья ушли от него на рассвете, честно говоря, недоумевая. Трика, казалось, почти не изменился. И точно — ничего не понял. Неловко, по-детски радуясь, как вернувшийся после смерти. И не испытывая никакого раскаянья. В том же категорическом тоне упрекая этого и того, коря пятого и десятого, обрисовывая то, что совершил сам, как само собой разумеющееся; уверенный, что любой на его месте поступил бы так же, а значит, нечего об этом и говорить. Опять полный каких-то несбыточных и авантюрных проектов. Весь кипящий от нетерпения. Весело заикаясь от волнения.
Неизвестно, что от него ожидали. Возможно, уже готовили слова успокоения и уговоров в ответ на бурное проявление раскаянья: ладно, старик, не переживай, кто не оступался, с кем не бывает, да не убивайся ты так, вон Николай Николаевич — слушай, а прививок, уколов никаких не было? Ничего подобного. Трика выбрал убийственный тон, изображая усталого победителя, вернувшегося из трудного похода. За несколько дней у него перебывала половина Москвы, а затем поток незаметно стал мелеть, редеть, он не сразу все понял, пока неожиданно не показалось дно, и на этом все кончилось. Второй раз к нему никто не заходил. Он звонил по телефону, нужных приятелей-домоседов не оказывалось дома; словно попав под крыло эпидемии, каждый второй жаловался на больное горло; и почти все попали в водоворот неотложных дел. Неделю он терпел, затем стал настаивать, доходя до истерических искорок в трепещущем голосе, просил разрешения приехать самому, от встреч с ним уклонялись, придумывая теперь уже самые прозрачные отговорки, пока, наконец, один из приятелей, по случаю оказавшись в подпитии, с хмельной прямотой не сказал ему по телефону, что он о нем думает.
Это был конец. Глухая, как пробка, изоляция. Полгода он выходил из дома только за сигаретами, да прогуляться с собакой. Поведение Трика обсудили в сотне телефонных разговоров и безоговорочно осудили. Из чувства сострадания с Трика общались: седой, усталый и снисходительный автор книги «Домашний юрист», теперь работающий автомехаником в частном гараже Оклахомы, а тогда живший в чутком ожидании собственного ареста; Поль Лавсан, человек с весьма неопределенной репутацией, да бывший одноклассник и соратник по «Колониальной ночи», играющий с Трика в шахматы по телефону.
«Я хочу рассказать тебе о своей последней поездке в Москву, — читаем мы в третьей записной книжке, — дождь лил всю неделю, я дважды умудрился промочить ноги, зонтик открыл уже в аэропорту на стоянке такси. Грустная пора. Марсель обозначает подобную ситуацию “положением, когда песочные часы перевернули”. Кажется, что все потекло обратно, помнишь, в одном моем романе трубач не выдувает, а втягивает в себя музыку? Ты был прав — возвращаться туда, где было когда-то хорошо, непростительная оплошность: все здесь как-то изменилось за этот год — ссохлось, скукожилось, поскучнело, будто смотришь сквозь пыльные очки, которые лень протирать.
Но у Трика я все же побывал, хотя Жэнэ уверял меня, что это будет неудобно, да и не очень безопасно: якобы он подвергнут остракизму не столько в наказание, сколько из-за опасения рецидива. Я позволил себе усомниться, мне строго было сказано, что если я хочу лить воду в бочку без дна — узнаешь образность нашего друга? — то ради Бога, но говорить с Трика то же самое, что — ну, ты понимашь. Я не возражал, но поступил по-своему, и позвонил Трика в первый же свободный вечер, который не заставил себя долго ждать ввиду мокрых туфель и куда-то суетливо бегущего дождя за окном.