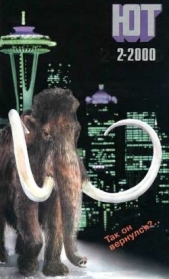Новый Мир ( № 6 2000)

Новый Мир ( № 6 2000) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще один пример юбилейного писательского слова о Пушкине — чистосердечное признание поэта Льва Рубинштейна в журнале «Итоги»: «Сказать о нем что-нибудь не сказанное раньше практически невозможно. „Что я могу еще сказать?“ Да ничего» [6]. О Пушкине в статье действительно — ничего, зато верно определена отличительная черта последнего юбилея: «Как здоровая реакция на грозящие госюбилейные пушкинские „мероприятия“ возникает, растет и набирает силу альтернативная „Пушкиниана“. Мучительно не хочется хоронить хорошего человека в душных объятиях „властных структур“ <…>. Мы несем ему свои подарки, будучи уверенными, что умнице, непоседе, насмешнику и ходоку, каковым наше всё и было, они пришлись бы по душе куда больше, чем торжественное заседание в Большом театре, не менее торжественный молебен в ХСС и целая свора монументальных кучерявых страшилищ, безумным взором озирающих „племя младое, незнакомое“. Здравствуй, мол, племя, Новый год!» [7] Сам Лев Рубинштейн внес вклад в альтернативную пушкиниану, нарисовав образ «огромного, надутого горячим воздухом поэта, парящего над столицей», и предложив переименовать Пушкинскую площадь в Страстную, а через сутки — опять в Пушкинскую [8].
Подобное остроумное, забавное или просто легкое пушкинианство пышным цветом расцвело в юбилейном году в эфире, на телеэкране, на страницах газет и глянцевых журналов. И это, как говорит кукла Немцова, «совершенно понятно». Нагнетаемая всей тяжестью государственного пресса, официальная «клевета обожания» (так в 1899 году публицист Михаил Меньшиков озаглавил свою полемическую статью о Пушкине) вызвала общенародную тошноту, которую можно словесно оформить выкриком Эдуарда Лимонова: «Нельзя превращать когда-то живого и, очевидно, крайне обаятельного человека в такое тяжеловесное мурло <…>. Лучшее, чего хотел бы сам Пушкин, наверное, чтобы его памятник тоже взорвали. Поскольку это не он!» [9] Беда только в том, что альтернативный юбилейный Пушкин тоже оказался — «не он».
Яркий образец такого альтернативного Пушкина дан в фильме Александра Гордона из цикла «Собрание заблуждений», показанном на ОРТ 17 июня: история гибели поэта в нем представлена по-новому, в свете свежей догадки о его гомосексуальных наклонностях и не сложившихся соответствующих отношениях с Геккерном. Добро бы это было в шутку — но нет, больше всего фильм раздражает своей невыносимо претенциозной серьезностью и глубокомыслием. Уж и не знаю, что лучше — официальный медный Пушкин или гордоновский голубой. Оба хуже.
По другому пути оживления медного истукана пошло радио «Эхо Москвы», построившее свой долгосрочный пушкинский проект на анекдотах и забавных историях из жизни юбиляра. Все это было изящно и довольно симпатично и сопровождалось народной викториной. Викторина не знаю чем закончилась, но думаю, что слушатели не сильно обогатили свои знания о настоящей — творческой — жизни Пушкина и не приблизились к пониманию его судьбы. Впрочем, такая задача не ставилась, что само по себе показательно.
Опорным слоганом альтернативной пушкинианы стали многострадальные слова Аполлона Григорьева «Пушкин — наше всё», каламбуры на эту тему вошли в большую моду. Выборочные примеры из прессы: «Пушкин <…> наше всё что ни попадя» (Павел Белицкий, Григорий Заславский), «Пушкин — наше всуе» (Ольга Кучкина), «Он стерпел наше всё» (Дмитрий Абаулин), «Пушкин — наше ничто» (Борис Парамонов) и т. п. Совсем не чураясь таких языковых игр (без них и наш «великий и могучий» закоснеет, и сами мы завянем от тоски), я хочу напомнить себе и читателям, что имел в виду Аполлон Григорьев — бьюсь об заклад, что ни один из поименованных острословов в его статью 1859 года не заглянул: «А Пушкин — наше всё: Пушкин — представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин — пока единственный полный очерк нашей народной личности <…> Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически нашего» [10]. Вот эта «сфера душевных сочувствий» Пушкина, по-моему, не вызывает никакого интереса у наших молодых современников. Да и осталось ли у нас «наше душевное, особенное» после всех столкновений с чужими мирами, или эти столкновения оказались роковыми и «всё наше душевное, особенное» поглотили?
Из всей альтернативной пушкинианы я бы выделила примечательный опыт журналистов газеты «Ex libris НГ» [11] — они отрецензировали ряд пушкинских произведений как если бы эти произведения были написаны сегодня (и только что изданы издательством «Наше всё»), прочитали их в контексте современной литературы, гуманитарной науки, театра и кино. Пушкин у них знает не только Джона Фаулза и Умберто Эко, но и Титуса Советологова; в «Дубровском» он развивает мотивы песни Гребенщикова, а в «Медном всаднике», испытавшем сильное влияние мирового кинематографа (Медный всадник — Годзилла), Пушкину «удалось перенести на бумагу этот чудный и неповторимый опыт человека, у которого в руках камера». «Сказка о рыбаке и рыбке» прочитывается как притча об августовском кризисе 1998 года, а также о финансовых пирамидах и обманутых вкладчиках, а образ синего моря моделирует колебания финансовых рынков и одновременно, вместе с золотой рыбкой, символизирует Международный Валютный Фонд («Долго у моря ждал он ответа…»). Но особенно повезло «Истории Пугачевского бунта», поданной так, как ее предположительно будут читать еще через двести лет: в этом «историческом плазмоиде» Пушкин «свободно сканирует, артикулирует, квантует и голографирует бывший некогда запретным мир исторических резервуаров „бунта“». В целом перевод Пушкина на язык современной и будущей культуры получился очень выразительным, а пародия — вполне серьезной. Этот несомненно удавшийся проект показал, что для современных, продвинутых, бойко пишущих молодых людей пушкинский мир с его ценностями оказывается безнадежным анахронизмом. Чтоб этот мир хоть как-то воспринять, приходится с ним что-то делать, модернизировать, пристраивать его к собственной системе культурных ценностей. Так остроумно играть можно только с мертвыми текстами. Уж не знаю, хотели того или нет журналисты «Ex libris ’ а», но они реально продемонстрировали пропасть между текстами Пушкина и сегодняшним культурным сознанием.
То же показал, по-моему, и проект ОРТ по всенародному построчному чтению «Евгения Онегина». По поводу этой акции с удовольствием приведу два противоположных мнения двух моих равно уважаемых коллег. Андрей Зорин: «Безусловно, одним из самых ярких проектов всего юбилея стало коллективное телечтение „Евгения Онегина“, когда сотням людей, а в некотором символическом измерении и каждому носителю русского языка дали возможность побыть с Пушкиным на дружеской ноге. <…> Смотреть это зрелище было захватывающе интересно — сегодняшняя Россия говорила о себе пушкинскими словами. И Александр Сергеевич снова не подкачал, в который раз дав возможность своей стране выглядеть достойно» [12]. Татьяна Чередниченко: «Телеканал пометил красивыми латинскими цифрами онегинских строф собственный эфирный календарь. Об этом свидетельствовали лица читающих, каникулярно-радостные, но принципиально далекие от „Вдовы Клико или Моэта / Благословенного вина / В бутылке мерзлой для поэта…“, а близкие бутылкам „пепси“ или „фанты“, сопровождаемым рекламным слоганом „Вливайся!“. Оказавшиеся под руками чтецы произносят доставшиеся строчки без особого старания попасть в нужный тон, напротив — „отвязанно“ демонстрируя свободу от пиетета и собственную праздную стильность. „Евгений Онегин“ в проекте ОРТ слился с опорным жанром телевидения — рекламным роликом. „Фишка“ — в том, что в обычном рекламном ролике обыватели ласкают себя пылесосами, стиральными порошками и подгузниками. К. Эрнст придумал ролик необычный. В нем потребители пылесоса дополнительно обласканы (самообласканы) аристократической по генезису „культурой“. Но в телеконтексте эта „культура“ становится бытовым предметом. <…> Текст встраивается в ряд с не сходящими с телеэкранов „звездами“ наших дней. Так „демократически“ съедается дистанция между духовным аристократизмом пушкинского мира и консуматорными радостями / политической суетой современной культуры. Но одновременно обнажается и пропасть, их разделяющая» [13].