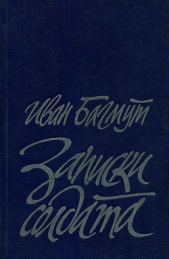Записки лимитчика

Записки лимитчика читать книгу онлайн
В книгу челябинского писателя вошли повести и рассказы, в которых исследуются характеры людей, противостоящих произволу, социальной несправедливости. Активный социальный пафос автора убеждает в том, что всякое умолчание о социальных бедах — то же зло. Книга утверждает образ человека, открытого миру и людям, их страстям и надеждам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
...Глядя в черную воду, на поверхности которой в зловещем танце толклись лед и обломки досок, я вспомнил недавнее: взрыв перемычки с подводящего канала, и как котлован заполнялся водой, как пошла она через водоспуск. И думал о великой силе опасности, кажется, обнажающей в человеке основу.
Ай да мы!
Нынче прокручивали вхолостую первую турбину. Сбежались все работавшие поблизости. Неспешные обороты... Поехали!
Сложное чувство, то ли умиления, — наконец-то прокрутка, ай да мы! — то ли сожаления — как, уже? а сколько пережито здесь! — овладело всеми. Привычные мысли о турбине, как о чем-то косном, мертвом, огромном, что надо осилить трудом и терпением, пуще того — оживить, — эти мысли сменились у всех представлением о ней, как о чем-то ожившем — со своим характером, поведением: как она поведет себя, что-то выкинет?..
Озабоченными именинниками выглядят ленинградцы из Гидроэнергомонтажа. Держатся они особняком. И язык у них свой, монтажный, не очень-то и поймешь, о чем разговор. И в свой круг они чужака не враз пустят... Так-то вот и отгородятся от строительного народа.
У командированных монтажников кичливость и гордыня перед прочими строителями те же самые, что у летчиков перед пехтурой. Им и деньги идут побольше, подносят их поуважительней — не то что нам, простым смертным.
А ведь не велика шишка — командированный! В последние месяцы их в Летний навезли немало. Прибывают они бригадами, у них свои прорабы; там, слышишь, украинцы частят по-своему, а там — солидно и негромко переговариваются латыши, и тоже держатся особняком.
Но не всегда. Когда подопрет — пожалуешься первому встречному... Украинцы и говорят:
— Многие из наших по полжизни в командировках размотали, весь Союз объездили. Не успеешь вернуться из одной, как в другую гонят. Так и живем!
Впрочем, в Летнем командированные не очень-то задерживаются. Одни спешат отработать месяц и уехать — их поначалу на месяц и присылают; другие остаются на два-три месяца, понуждаемые угрозой расчета по известной, слишком известной статье. Это уж их своя администрация прижимает — издалека давит. Но и они в конце концов уезжают. Тогда присылают новых рабочих.
Командированным платят раза в полтора, а то и в два больше зарплаты местных рабочих (и мы, вербованные, тоже считаемся местными!). Но иначе стройку никак, видно, не поднимешь: говорят, рабочих рук нет... Руки-то есть, вот кое у кого головы нет! И такое говорят в бригадных будках да по общежитиям.
Ночью турбину пробовали на полном ходу, дали ток. И первым током ударило бригадира электромонтажников, который работал в одиночку на подстанции. Обгорел у него лоб... Отваживались с ним, спасали, как умели. Послушали — жив, сердце тукает. Увезли в Беломорск.
Бригадир этот — пожилой, приземистый, с широким калмыцким лицом, с глазами, которые называют кислыми — из-за узости их особенной, с кисточками редких усов, опущенных подковой над ртом. Все в его повадке особенное, независимое, устроенное по-своему. Отгораживался он от жизни тоже по-своему: черным словом, в котором счастья нет, матерок городил на матерок.
«Каким же он был в молодости, в ранней юности? — думал я. — Непредставимо!»
...— Все горки поросли эдак — кошачьей лапкой, трава есть такая, — рассказывает Юноша. — Я любил эти горки, мы бегали там босиком; я жалел взрослых, которые обуты и не чувствуют ни земли, ни травы, ни парных в траве луж... А еще я горевал — вот горюн-то был! — что скоро мне и самому быть взрослым.
Мы с молодым Хомченко да с пожилым Митей, которого зовут еще Митя-с-медалью, распалили огонь, пережигая стальную проволоку: мягкая она годится вязать арматуру. Мотки проволоки брошены на костер, крючки для вязки ее у нас уже готовы. Юноша к нам прибился, к костерику, а шел по своим делам, и вот теперь, угревшись, неторопливо рассказывает о своем.
— Вообще-то я вредным был, — признается он, усмехаясь. — Ох мне и доставалось от пацанвы! «И в кого ты такой? Перечишь, перечишь — поперешный?» — говорили мне. «В мать, — отвечаю, — в отца. Они у меня своей костью власть зашибить хотели — поперек перли... А как власть их смолотила, они тут меня и подсунули: на-ка вот взрасти его, в нем наша кровь единая». Я и вырос, выкормился на диких харчах; глазами, будто стенку прободел, — вижу, где люди ходят, ну а где мать с отцом, там, стало быть, нелюди!..
Жар течет с его скул, глаза прижмурены, он посунулся к огню, точно видит его впервые.
— Ты их знал все-таки? — спрашивает молодой Хомченко.
— Был у них уже большим. Вместе с сестренкой были, она в другом детдоме воспитывалась.
Юноша отвечал нехотя, медленно, равнодушно сплевывая в огонь.
Знаю, очень хорошо знаю, что он вырос в детдоме! И, не зная, чувствовал. Пытался он выучиться, да ушел с третьего курса лесного техникума в Вологде: лишили его стипендии, а помощи ему ждать неоткуда было. Устроившись газорезчиком в депо, он стал помогать сестре, учившейся к тому времени в педагогическом училище. Заветная мечта Юноши — сестру выучить, чтобы у нее жизнь была полегче.
О том, как он был пожарником, жил по лимитной прописке, а потом и без прописки, не жил, а существовал, он вообще неохотно вспоминал. В Летний он попал по вербовке, почти в одно время с нами.
Юноша зашевелился, чуть ли не вздохнул, заслонил лицо от слишком сильно шатнувшегося пламени, — это Хомченко потыкал палкой мотки проволоки в костре.
— Снился мне прошлую ночь детдом... Будто опять я в Кадникове, и мне четыре года... Хочешь не хочешь, а снится. Надо же!
Митя, до того глядевший и слушавший безучастно, встрепенулся, пожевал губами, словно хотел что-то сказать, но так ничего и не сказал.
— Быть может, я уже умерла и все вокруг тоже, — раздумчиво проговорила мать, взглянув на меня с улыбкой слабой, вопрошающей. И, помолчав, прибавила, как бы оправдываясь:
— Мне так показалось сегодня... Странно, правда?
Недавно она принялась вспоминать — впервые на моей памяти, во всю жизнь не трогала этого в себе. — как в гражданскую войну расстреливали в Глазове:
— Мы, ребятишки, бегали на Вшивую горку подсматривать: сегодня белых там расстреливают, а завтра — красных...
Она тут же обрывает себя. В глазах у нее я вижу тот самый детский испуг вместе с огоньком смертельного любопытства, как будто снова она пряталась в засаде.
Город Глазов. Жили они в доме бывшего владельца винокуренного завода. «Гырдымов, кажется, — говорит она оживляясь. — Ну да, Гырдымов». Подселили их, пришлых, многодетных, в гырдымовский дом. Отец, как всегда, плотничал — плотник он был каких поискать, — работал по найму.
— Самый разгар гражданской войны, а мы решили перебираться на Урал. Вот как сообразили! Голодали, конечно, вятские тогда голодали... А там, по слухам, хлеб есть — земляки туда раньше подались. Сообщали: хорошему плотнику заработать можно. Ну мы с Ахорзиными да еще с одной семьей и поднялись. На лошадях полтора года на Урал ехали. В Глазове остановились подкормиться, как потом по деревням на пути кормились. Платили нам за работу мукой или зерном. Зерно мать в ступке толкла.
У отца было прозвище — Гамаюн, так его мужики называли. Не наш, мол, иной человек, вести несет. — А в своей деревне все его звали Ванька Шалай.
Когда в гырдымовском доме красноармейцы постоем стояли, они нас подкармливали. Только кончат они кашеварить, мы, ребятишки, уже тут как тут. Мать нас и снарядит: каждому по миске либо по кружке сунет да и подтолкнет тихонько — бегите, мол, не обидят. И верно, не обижали. Кашевар вроде бы сердито спросит: «А это чьи?» А ему уж кричат: «Да это здешние, Гамаюнова мелкота!» Он и подобреет, каши нам солдатской либо щей отпустит. Мы к матери несемся, показываем...
Во время обстрелов артиллерийских мы в подвале прятались. Там у Гырдымова хранились винные этикетки. Видимо-невидимо было их! Над нами снаряды летят, а мы — на винных этикетках... Играли ими!