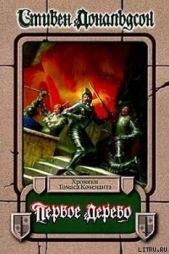Брысь, крокодил!

Брысь, крокодил! читать книгу онлайн
Книга «Брысь, крокодил!» объединила несколько рассказов и повестей писательницы: «Опыты», за которые Вишневецкая получила премию Ивана Петровича Белкина и Большую премию имени Аполлона Григорьева, и ранее написанные рассказы, объединенные теперь под названием «До опытов». Каких только эпитетов не находили критики для прозы Вишневецкой: жесткая, напряженная, яростная, динамичная, экспрессивная, лирическая, надрывная, исповедальная, нервическая… Прозе этого автора подходят, пожалуй, все эти определения. Рассказы Вишневецкой образны и ярки. Читая их, живо представляешь ситуацию, людей в ней и их переживания. Все они написаны в разных манерах, разным слогом, в них пульсируют индивидуальные ритмы, а в каждом рассказе бьется неповторимое сердце его главного героя. Герои — мастер по музыкальным инструментам Альберт Иванович («Начало»), библейский Адам («Своими словами»), подросток Сережа («Брысь, крокодил!»), бездомная алкоголичка и проститутка («Воробьиные утра») — живут своими жизнями, отдельно от автора, как будто никогда и не имели к нему отношения. Это особый талант писательницы — умение стать другим человеком, войти в другую жизнь, заговорить другим языком и всегда при этом оставаться правдивой.
«Опыты» — это девять откровений разных людей, девять историй, рассказанных ими самими, девять непохожих голосов. Все, что знает о них читатель, это их инициалы и то, что они сами захотели о себе рассказать. Но из обычных слов и букв вырастают яркие образы, живые и очень разные люди, и читателю уже сложно поверить, что все это написал один человек. Проза Вишневецкой обладает редким качеством — ее можно и нужно перечитывать, каждый раз открывая новые, не замеченные раньше грани.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но ведь и я никогда не искала подробностей. Всю жизнь у меня было чувство, фактически неосознанное, да, представь себе, я никогда не думала об этом словами, я знала это до слов: где-то за моей спиной стоит гул обрушившегося дома, города, мира, я живу, взрослею, радуюсь, печалюсь, старею, а на самом деле я только и делаю, что от этого гула бегу, он же ни на йоту не удаляется, и, значит, самое главное — бежать, бежать без оглядки.
А ведь что-то наверняка мог рассказать Исаак, покойный бабушкин брат, он учился в начале войны в Москве, в военном училище. Что-то — мой прадед, отец бабы Ривы, в один из первых дней войны он эвакуировался из Минска вместе с наркоматом внутренних дел, где работал главным бухгалтером управления аэродромостроения (что уж там были за сверхсекретные документы? он повез их в Смоленск, а семье сказал никуда не двигаться, ждать его, через два дня он вернется и всех вывезет — немцы были в Минске уже на следующий день).
Ну и вот… Время шло. Ответа от Вали не было. Прошло уже больше двух месяцев, и вдруг бабушке приносят заказное письмо. Она подумала, что это опять из немецкого Фонда — отказ. А это было письмо от Валиного сына, Олега, кстати, ровесника Жанночки. Олег написал, что его мать, Варвара Симон, умерла полгода назад,
«но, может быть, вам, Ревекка Михайловна, окажет пользу мамин ответ на запрос из израильского мемориала „Яд Вашем“. Посылаю вам его ксерокопию, заверенную нотариусом, а также копию маминого свидетельства Праведницы Мира».
«Я, Симон Варвара Васильевна, 1912 г. рождения, с.Корчмище Андрушевского р-на Житомирской области, по национальности украинка, образование неполное начальное. Во время оккупации жила в Минске. В первый же день войны муж ушел на фронт и не вернулся. Извещение о его гибели я получила после войны. Я с младшей сестрой Ольгой и двумя маленькими детьми (дочь Светлана 1938 г. рождения, сын Олег 1939 года рождения) в июне 1941 г. ушла в деревню в 20 км от Минска, где прожила около 2-х месяцев. После этого мы вернулись в Минск в свою квартиру по ул.Советской, 36. Я работала дворником. Чтобы обеспечить детей едой, ходила по деревням и обменивала вещи на хлеб и др. продукты.
В нашем дворе на стройке под охраной работали узники из еврейского гетто. Многие из них заходили к нам в дом, и мы помогали им, чем могли. Затем я много раз проникала к ним в гетто, проползая под колючей проволокой. Для того чтобы охрана не отличала меня от узников гетто, на фуфайку спереди и на спину, на левой стороне против сердца, приходилось нашивать желтые круги. Такой был установлен порядок фашистами. Приносила я этим бедным, изможденным людям в основном еду, делилась с ними, чем могла.
В начале 1942 г. я узнала, что партизаны организовали прием еврейских детей из гетто с последующей отправкой их в Россию. После установления связи с партизанами я начала тайно выводить детей из гетто, прятала их у себя в подвале, а потом переправляла в партизаны. Спасением еврейских детей занимались многие люди, в том числе мои знакомые, соседи. Я вывела из гетто 8 детей. Еще одна из спасенных — Левина Ревекка Михайловна, с родителями которой я жила до войны в одном доме. Она прожила у меня в подвале около 2-х лет, а затем я отвезла ее в Вильнюс».
(Потому что узнавший бабушку одноклассник был снова замечен возле Валиного дома…
Артемыш, уж если я не поленилась набрать этот текст, не сочти за труд, прочти его хотя бы еще один раз. Начиная с «неполного начального образования», ме-ня в нем забирает каждая фраза. Особенно эта: «спасением еврейских детей занимались многие люди…» Ты понимаешь, почему — да?)
Посмертное Валино свидетельство Фонд Клейме Конференс к сведению принял. Но поскольку документом оно все-таки не являлось, бабушке было назначено собеседование (день и час): ей предстояло ответить на ряд вопросов, то есть фактически сдать экзамен на знание материала. Слышать немецкую речь без дрожи у бабушки до сих пор не получалось… Тебе было лет двенадцать, не меньше, потому что мы были уже без Елоева, — пришли поздравить ее с днем рождения, ты моментально заскучал, стал переключать каналы, попал на фильм про войну, радостно обмер, еще бы: там лаяли овчарки, немцы кричали «русиш швайн» и стаскивали с чердака партизана! — у бабушки в руке запрыгали чашки, она как раз доставала их из серванта, я выхватила у тебя пульт…
И вот теперь я ехала с ней в машине на Малую Бронную, в представительство немецкого Фонда. С валидолом, нитроглицерином и на всякий случай нашатырем. Ничего этого, к счастью, ей не понадобилось. Растерянная в машине, испуганно озирающаяся в коридоре, войдя в кабинет, бабушка преобразилась. Из нахохленного воробушка вдруг превратилась в орлицу. Но ее старенький черный сарафан и под ним моя двадцатилетней давности кофточка, белая ажурная, из акрила с желтым пятном на рукаве, а еще шерстяные чулки (она так и не сумела привыкнуть к колготкам), подобранные круглыми резинками, — один из них вдруг предательски пополз вниз, — и все это среди по-западному безукоризненного офиса… Это щемящее чувство словами не выразить, может быть, плачем скрипки, еврейской скрипки. А бабушка несмотря ни на что любезно кивнула переводчице, чинно поздоровалась с немцем. Он ответил, слава Богу, по-русски, хотя и с заметным акцентом. Предложил ей стул, и экзамен начался.
Сначала немец спросил, носили ли узники минского гетто звезду Давида. Бабушка ответила, что нет, они нашивали на одежду так называемые латы — круги, которые вырезали из старых чулок и штанов. Второго вопроса я не запомнила. Я зачем-то нащупывала в сумке валидол. Сколько бы я ни говорила тебе про могучие бабушкины гены, о чем и в самом деле ты не должен никогда забывать (и значит: не бояться выйти во двор, когда Белякович выгуливает там своего ройтвелера! мало ли, что было на дискотеке? он такой же трус, как и ты! да никогда в жизни он на тебя его не спустит!) — сколько бы ни занималась подобной духоподъемной ерундой, сама я почти наверняка при первом же косом взгляде бросилась бы обратно, в гетто, как это сделала Люба. И точно так же, как Люба, которую весть о начале войны застала на Кавказе, на студенческой географической практике, стала бы пробиваться в Минск, куда поезда с гражданскими уже не ходили: Люба уговорила какого-то военного, и он всю дорогу продержал ее у себя под полкой, — потому что в Минске был ее любимый, русский парень двухметрового роста по кличке «Миша, достань воробушка». Потому что характер — это судьба. Извини, что повторяюсь: ужас хочется заклясть, заговорить любой формулой — первой, которая приходит на ум. Эта все-таки не самая глупая.
Последний третий вопрос, заданный бабушке, касался ее родных. Она назвала имена, приблизительное время их гибели, способ умерщвления. Только тут я узнала, что в гетто погибли и три ее двоюродные сестры.
Переводчица стремительно печатала имена, даты… Немец, бабушкиными познаниями явно удовлетворенный, сказал, что почти уверен: решение по присуждению ежемесячного компенсационного платежа будет положительным, но окончательный ответ нам пришлют почтой. Бабушка поднялась. Я шагнула к ней, чтобы взять ее под руку. Она же вдруг вскинула подбородок. Скрюченные подагрой пальцы смяли, потом развернули носовой платок и он, перекрахмаленный, до блеска разглаженный, хрустнул. Или по ветхости треснул? Что-то происходило, чего я не могла понять. Немец как будто тоже занервничал. Повисла странная пауза. Бабушкин локоть выскользнул из моей руки. Она наклонилась и, найдя под подолом сарафана резинку, подтянула ее вверх вместе с чулком. А потом, распрямившись, вдруг шагнула к столу переводчицы: «Я хочу, чтобы вы записали следующее!»
Переводчица спросила у немца глазами: что делать? Немец кивнул и на всякий случай стал мягкой салфеткой протирать свои японские очки, раньше я про такие только слыхала: легкие-легкие, с тонкой и очень гибкой оправой, ее еще называют «леской» — говорят, они стоят баксов пятьсот.