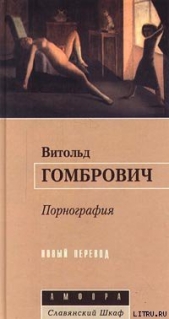Дневник

Дневник читать книгу онлайн
«Дневник» всемирно известного прозаика и драматурга Витольда Гомбровича (1904–1969) — выдающееся произведение польской литературы XX века. Гомбрович — и автор, и герой «Дневника»: он сражается со своими личными проблемами как с проблемами мировыми; он — философствующее Ego, определяющее свое место среди других «я»; он — погружённое в мир вещей физическое бытие, терпящее боль, снедаемое страстями.
Как сохранить в себе творца, подобие Божие, избежав плена форм, заготовленных обществом? Как остаться самим собой в ситуации принуждения к служению «принципам» (верам, царям, отечествам, житейским истинам)?
«Дневник» В. Гомбровича — настольная книга европейского интеллигента. Вот и в России, во времена самых крутых перемен, даже небольшие отрывки из него были востребованы литературными журналами как некий фермент, придающий ускорение мысли.
Это первое издание «Дневника» на русском языке.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такое понимание Бога можно легко обосновать. Достаточно исходить из того, что человек должен существовать в рамках своего вида, что природа вообще, природа мира дана ему прежде всего в качестве природы человеческого вида, что сосуществование человека с другими людьми имеет приоритет перед его сосуществованием с миром. Человек существует для человека. Человек существует по отношению к человеку. Потому мог возникнуть миф абсолютного Бога, что он помогал человеку открыть другого человека, сблизиться с ним, соединиться.
Пример: Вейль. С кем она хочет соединиться — с Богом или через Бога с другими человеческими существами? Кого она любит — Бога или же через Бога человека? Из чего возникает ее сопротивляемость смерти, боли, отчаянию — из ее связи с Богом или с людьми? Не является ли то, что она называет милостью, состоянием со-существования с другой (но все же с человеческой) жизнью? А значит, абсолютное, вечное, неподвижное «Ты» это всего лишь маска, за которой скрывается лицо простого смертного… Грустное, наивное и трогательное… Такой прыжок до Небес, и все ради того, чтобы со своего «я» перепрыгнуть на находящееся в двух метрах чужое.
Если же вера — это лишь такое состояние души, которое ведет к другому существу, бренному, человеческому, то это состояние должно быть доступно мне даже если отбросить вспомогательный миф о Предвечном; честное слово, не знаю, почему бы не проверить действенность этого принципа на самом себе. Мне, видать, ключа какого-то не хватает. Наверное, Бог — один из возможных ключей, но должен существовать и другой ключ, соответствующий моей природе. Коль скоро речь зашла обо мне, то вся моя жизнь, весь мой опыт, вся интуиция, короче — все толкало меня в этом направлении, т. е. не к Богу, а к людям. Облегчение ухода в мир иной, я бы сказал, нормализацию умирания, я мог бы получить только путем перекладывания груза моей индивидуальной смерти на плечи других людей и вообще подчиняясь другим.
Люди — это страшная сила по сравнению с единичным человеческим существом. Я верю в сверхъестественную исключительность коллективного существа.
J. рассказывал мне о том аде, который ему пришлось пережить в немецком концлагере, в Маутхаузене. Атмосфера этого лагеря — человеческая атмосфера, поскольку лагерь создан людьми, и была она такой, что смерть стала легкой, и он, идя в газовую камеру (от которой спасся чудом), жалел, что не успел съесть утреннюю пайку хлеба. Это ослабление смерти (как явления) было не только следствием физической пытки — это «дух» стал другим… унижающим и обесценивающим.
Средства нашего общения с людьми как были, так и остаются ничтожными. Страшно одиночество животных, которые едва находят общий язык друг с другом… А человек? Мы еще не слишком далеко ушли от животных, мы понятия не имеем, чем может оказаться вторжение другого человека в нашу замкнутую самость.
Почувствовать, каким ты станешь в будущем… вот это знание!
Четверг
Лефевр о Киркегоре:
«Он потерял любовь, невесту. Он молит Бога возвратить ему все это и ждет…»
«Так чего же ждет Киркегор? Он требует повторения той жизни, которую он не пережил, он требует возвращения потерянной невесты».
«Он хочет повторить прошлое, чтобы к нему вернулась Регина [108], такая, какой она была во время их помолвки…»
Как же это похоже на «Венчание»! С той только разницей, что Хенрик не обращается к Богу. Он свергает своего отца-короля (устраняет то единственное звено, которое соединяло его с Богом и с абсолютной моралью), после чего, провозгласив себя королем, он будет стараться вернуть прошлое с помощью людей, он попытается вылепить из них реальность.
Магия божественная и магия человеческая.
Как и все марксисты, пишущий об экзистенциализме Лефевр местами кажется мне проницательным, а мгновение спустя — он как будто из окна выпадает на улицу — такой становится бульварный и невозможно плоский.
Когда же кончится этот вихрь, эта сумятица, безумие листьев, отчаяние ветвей? Одни деревья успокаиваются, а другие начинают стонать, шум переходит с одного места на другое, а я — закрыт — в доме и в себе… и сейчас, ночью, взаправду боюсь, что «нечто» может выглянуть из темноты… Нечто ненормальное… ведь моя безобразность возрастает, мои отношения с природой плохи, нечетки, неопределенны, и эта неопределенность делает меня доступным для «всех». Я имею в виду не черта, а «что угодно»… Не уверен, достаточно ли ясно? Если бы стол перестал быть столом, превратившись в… Не обязательно во что-то дьявольское. Дьявол это только одна из возможностей, вне природы — беспредельность…
«Крайность» окружила меня со всех сторон, и осада эта исполнена трепета и могущества. Но, как я уже с удовлетворением отметил, я гашу о себя все могущества. Романтик в моем положении вожделенно отдался бы этим фуриям. Экзистенциалист — пестовал бы страхи. Верующий — каялся бы перед Богом. Марксист — углублял бы марксистское понимание… Не думаю, что кто-нибудь из этих серьезных людей стал бы защищаться от серьезного восприятия этого опыта, что же касается меня, то я делаю все возможное, чтобы вернуться к обыденному измерению, к обычной жизни, не слишком серьезной… Я не хочу ни пропастей, ни пиков, хочу равнину…
Возвратиться из «крайности»…
Я вполне освоился с тем методом мышления, который делает возможным такое возвращение. Я говорю себе: твое умирание живет, причем очень интенсивной жизнью. Ты переживаешь смерть, чтобы описать ее как можно более живо, ты хочешь использовать ее в своей литературной карьере, отложить на черный день. Ты заглядываешь в пропасть затем, чтобы рассказать другим о том, что ты там увидел. Ты ищешь величия, чтобы на вершок возвыситься над людьми. Перед тобой бездна, а за тобой шумный людской мирок…
Да разве только я? Не для того разве предпринимались «величайшими представителями человеческого духа» все исследования Неизвестного, чтобы в серой обыденности стать великим философом, поэтом или святым? Как объяснить, что нет в моих словах иронии и что именно на них строю я все мои надежды?
Диалектика, сокрушающая величие ради ничтожного. Прийти к посредственности. Освоить посредственность на высшем уровне (компрометируя любую крайность, правда, заранее исчерпав ее) — все это соразмерно со мной.
Пятница
Польский католицизм, такой, каким он исторически сложился в Польше, я воспринимаю как перекладывание на чужие плечи — в данном случае на Бога — тех тяжестей, которые больше нет сил нести. Это точь-в-точь отношение детей к отцу. Ребенок находится под опекой отца, которого он должен слушаться, уважать и любить, исполняя его приказания. Именно поэтому ребенок может оставаться ребенком, что все «крайности» оставлены Богу-Отцу и Его земному посольству — Церкви. Таким способом поляк завоевал молодой зеленый мир, зеленый — в смысле «незрелый», но также и в том смысле, что в нем луга, деревья и цветы, а не метафизическая чернота. Жить на лоне природы, в ограниченном мире, оставляя черноту вселенной Богу.
Меня, такого ужасно польского и ужасно против Польши взбунтовавшегося, всегда раздражала инфантильность польского мирка, вторичного, упрощенного и набожно-благочестивого. Польскую застойность в истории я относил на его счет, сюда же — и польскую импотенцию в культуре: ведь Бог вел нас за ручку. Это послушное польское детство я сравнивал со взрослой самостоятельностью других культур. Этот народ без философии, без осмысленной истории, интеллектуально дряблый, духовно робкий, народ, сподобившийся только на «приличное» и «порядочное» искусство, народ-размазня лирических рифмоплетов, фольклора, пианистов, актеров, народ, в котором евреи и те растворились и потеряли свой яд… Мою литературную деятельность освещает идея вернуть поляка из всех вторичных реальностей и столкнуть его непосредственно в мирозданье — пусть живет, как сможет. Детство его хочу разрушить.