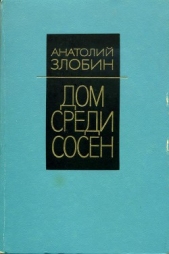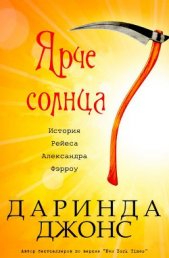На исходе дня
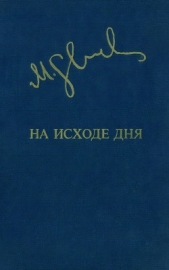
На исходе дня читать книгу онлайн
Роман На исходе дня — это грустная повесть о взаимосвязанной и взаимозависимой судьбе двух очень разных семей. Автор строит повествование, смещая временные пласты, не объясняя читателю с самого начала, как переплелись судьбы двух семей — Наримантасов и Казюкенасов, в чем не только различие, но и печальное сходство таких внешне устоявшихся, а внутренне не сложившихся судеб, какими прочными, переплетенными нитями связаны эти судьбы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Работаешь, Зигмас, или учишься?
— Конечно, зачем горбатому учиться, ему бы подметки прибивать, не так ли? А я, вообразите, полупроводники изучаю!
— Давай начистоту, физик… Где ты наслушался о медиках таких глупостей? Кто тебе это вдолбил, милый ты мой Зигмас?
— Сам по больницам валялся, всего насмотрелся… И не называйте меня, пожалуйста, милым Зигмасом. Я вам не поролоновая игрушка.
— Значит, в больницах ты видел только грубость, злоупотребления? Не лечили тебя, не ухаживали за тобой денно и нощно такие же люди, как ты сам, собственными заботами замороченные? Скажешь, нет? Не поверю! Задумывался ли ты когда-нибудь о медсестре, которая должна обойти полсотни, а то и больше больных? — Перед Наримантасом всплывает Нямуните с перекошенным злобой ртом, нет, лучше не вспоминать! — А врач… Ночью оперировал, днем снова оперируй, снова бинтуй… Чашечку кофе не принесут, чтобы хоть как-то успокоился — плетись в буфет, толкайся в очереди с дрожащими руками, которые только что спасли или потеряли человека!..
На театрально протянутые к юноше ладони врача уставились налившиеся жалостью, почти испуганные глаза. И Наримантас, уже остывший, чувствует укор совести: пусть мальчик не прав, нападая на белые халаты, но прав ли я сам, так безоговорочно их защищая?.. Снова возникает в памяти сегодняшняя Нямуните, топчущая саму себя. Нет, не террор алкоголика превращает ее в бездушный и наглый автомат… Ты отлично знаешь, чьих рук это дело, тебе хорошо знаком виновник, его колючая шкура! И с Зигмасом ты сцепился, чтобы юношеское исступление соскребло с души стыд — не решился подойти, одернуть ее и тем самым взять на себя долю ответственности…
— Рассчитываете на благодарность? Не дождетесь! Добродетельная медицина… Выходила вот с горбом, и радуйся теперь жизни! Я и радуюсь! Счастлив! — молодой Казюкенас почти кричит, его фальцет то устремляется вдаль, царапая окна корпусов, то сплющивается у ног, натолкнувшись на цветочную клумбу. Тело вздрагивает, и, помогая словам взлететь, режут воздух длиннопалые ладони, мечутся, словно сбиваемые вихрем птицы, и больше, чем слова, выдают тоску по чему-то очень простому, что не дано ему испытать, чего не заменят ни занятия физикой, ни дорогой костюм. Ни даже сестра, которая сегодня не пришла сюда с ним. Оба они подумали о ней — вздернутая губка, глаза, уютно освещающие круглое личико, хранящие какую-то свою тайну…
— Давай поговорим без церемоний, Зигмас. Как мужчина с мужчиной. Хочешь повидать отца?
— Прекрасная мысль, поздравляю! Почему бы ему не полюбоваться на горб сыночка? Ведь по его милости… — Молодой Казюкенас скрипнул зубами.
— Что, Зигмас, по его милости?
— Скажем, корректурная ошибка!
— Так зачем же ходишь? — Наримантас мрачнеет все еще дерзит юнец, хотя несколько раз хрустнул как деревце, которое гнут дугой, и он злится на себя размяк, чуть было не разрушил с таким трудом возведенную вокруг больного стену.
— Жду.
— Чего?
— Разве сюда запрещается ходить? Не бойтесь, не подожгу вашу больницу… С удовольствием бы устроил фейерверк, да в тюрьму садиться неохота.
— Лежачего не бьют, Зигмас. Это не по-джентльменски.
— Говорите, доктор, яснее! — Профиль у Зигмаса острый, как лезвие бритвы.
— Твой отец тяжело болен.
— Не верю! Не верю! Великий человек и вас, доктор, обманул… Обвел вокруг пальца! О, это он умеет, когда ему выгодно. Лечит геморрой, приобретенный ст протирания мягких кресел? Объелся икрой, угрями, красной рыбой?
— Не понимаю тебя, Зигмас.
— Я и сам себя не понимаю! — Не в чертах лица и не в жестах, скорее в неуловимом внутреннем свечении проглядывает его сходство с сестрой; не хватает ее Наримантасу, измученному сценой в приемном покое и этим тягостным разговором, а более того — мучительным ощущением обиды, не своей, чужой, но непосредственно его касающейся, как касается его теперь вся жизнь, говоря словами горбуна, «великого человека», похожая и непохожая на его собственную, отозвавшаяся там, где он и слабого эха не ожидал. — Ненавижу его, ненавижу… Как горб!
Зигмас вдруг отпрянул в сторону и быстро за шагал прочь; горб поднимается и опускается в такт шагам и не сулит мира, даже перемирия, как все сегодня как просьба Казюкенаса поговорить с Зубовайте как позорное поведение Касте в приемном покое.
11
— Ну и что доктор?
— Какой еще доктор?
— Показывал пальчик папаше? — Шарунас отдирал зубами железную пробку с бутылки пива, в маленьких воробьиных глазках беззлобная насмешка.
— Ха! Для меня он не доктор.
— А ведь ничего старик, — прозвучало уважение, наличие которого я и не предполагал у перемазанного сажей железного человечка.
— А твой где? — Я ни разу не видел его отца.
— Путешествует. Сено собакам косит… То ли в Казахстане, то ли в Киргизии… Пальчик не болит?
Кто его знает, болит или нет. Ранка запеклась, под коркой иногда покалывали иглы, аж в плече отдавалось Я бы, пожалуй, смотался в больницу к отцу, если бы не сотенная Казюкенене. А вдруг она отправилась туда своим солдатским шагом и потребовала от Наримантаса невесть чего? А сотня разлетелась — по десяткам, по пятеркам, только запах клубники раздражает обоняние.
— Монет тебе не жалеет. Правда, ничего старик. Закладывает?
Ну с тобой-то пить не станет, а грыжу нахалтуришь — вправит!
— У тебя, парень, где грыжа? В мозгах?
Шарунас допил пиво и расхохотался, снова равнодушный ко всему, что не машина, не детали, не инструменты.
Ей-богу, не выношу этого городского захолустья! Трясешься в набитом автобусе, как собака, шаришь взглядом по сторонам — никакой радости! Не сверкают на длиннющей улице, гордо именуемой проспектом, алюминий и стекло, тротуары разворочены, после вчерашнего дождя стоят лужи. Серые, объеденные козами склоны холмов, заводы и склады, постройки первых послевоенных лет — вот и вся красота, следует еще упомянуть о густом потоке автомобилей да стае ворон над почерневшими чахнущими соснами. Отвернувшись от рыгающего пивом, перемазанного известью маляра, попадаю в сферу ароматов потеющей поварихи еще мгновение, и задохнусь, не успев по примеру одного известного немецкого поэта воскликнуть «Больше воздуха!» Стараюсь не дышать, а в голове...
— Влада, сто световых лет!
— Думаешь, поверю, что рад?
— Чертовски! Где, в какой норе прячешься? Весь город исколесил, пока нашел.
— Хоть разок и тебе… Не врешь?
— Все олл райт, девонька? Как там? Не раздалась в талии?
На круглое лицо набегает облачко — дурацкая подозрительность, и ничего более!
— Бесстыдник… Еще смеется! Я некрасивая, глупая, но не толстая.
— Ура! Предлагаю отпраздновать встречу, но, увы, мои финансы…
— Есть о чем! Поддала вчера ногой на улице бумажку — смотрю… Кому ни совала, не берут…
— Доллары?
— Рубли.
— Пропьем и рубли! Кафе, ресторан?
— Нет, Ригас. Давай уж лучше в пивной бар, а? Люблю смотреть на твой мокрый нос…
Что ж, если мой мокрый нос — столь захватывающее зрелище, немедленно окунем его в пену! И начинаются хихоньки да хахоньки, перемежающие нашу болтовню: снова забываю об осторожности: а ведь не должно повториться падение в пропасть, не должно! Слова и обрывки смеха мелькают зазеленевшими деревцами. Мне самому странно: не бездонная пропасть — освежающий шелест?
Уже недели две Влада играла со мной в прятки и, как назло, всплывала в воспоминаниях. Ох, что-то не верится, будто осталась она в той доброй стране, которую я выдумал, ретушируя ее портрет, чтобы немножко симпатичнее выглядела. По-прежнему торчат широкие скулы, копной жесткие, как конский хвост, волосы; уж не скрывает ли она от меня повод своего исчезновения? Теперь все ее черты раздражают, особенно неразгаданные, а придется, стиснув зубы, любезничать, быть терпеливым. Не зря Сальвиния бросила: прощаешься с Владой!
— Ну-ка, малышка, дай на тебя посмотреть!
Когда пробиваемся в осажденную народом полутемную пивную, она норовит сунуть мне пятерку, да так, чтобы я не заметил. У нее горят щеки — ведь могу рассердиться! — и в пожаре щек тает некрасивость. Не увеличивается ли таким образом счет, который в один прекрасный день она предъявит мне, открыв свое истинное лицо? Нет, нет, Влада попросту неравнодушна к пиву. До сих пор меня не интересовали ее вкусы… Неужели и она, такая нетребовательная, что-то любит, а что-то, возможно, и ненавидит? Только этого не хватало… А пьет слабо — пригубила и уставилась над шапкой пены на меня. Осмелев, тянет руку и касается пальцем адамова яблока, чтобы почувствовать, как дрожит оно, повторяя ритм глотков. Смотрит и загадочно улыбается, будто она много старше и знает, что такое утраты. Дангуоле — мать, а так не смотрит! От глотка пива, от гомона вокруг Влада смеется громче, чем обычно, хотя едва ли ей очень весело среди отдувающихся, что-то бормочущих, икающих мужиков. А ведь сразу сообразила, что мне неудобно вести ее туда, где просторно и светло, где никто не цедит под столом водку в пивные кружки. Ну что ж, тем лучше! Значит, поняла и решила тихо, без упреков отступить… Ни черта она не исчезла. Зачем бы в таком случае заговорила о ней Сальве?! Нет, и с росой не испарилась, если трясусь вот в душном автобусе, задыхаюсь от запахов, распространяемых пьяным маляром и надушенной поварихой. О спокойной и легкой развязке мечтал я, особенно после очередной встречи, утолив жажду… Даже сочинил монолог — прощения и обиды, унижения и зависли. Мне бы радоваться, что не давлюсь ложью — когда лжешь без слов, не так противно! — однако выбрался из автобуса унылый и злой. Не был убежден, что Влада действительно мне не нужна или не будет нужна, когда удовлетворю требование Мейрунайте.