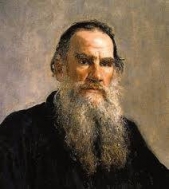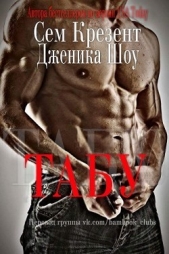Место, куда я вернусь

Место, куда я вернусь читать книгу онлайн
Роберт Пенн Уоррен (1905–1989), прозаик, поэт, философ, одна из самых ярких фигур в американской литературе XX века. В России наибольшей популярностью пользовался его роман «Вся королевская рать» (1946), по которому был снят многосерийный телефильм с Г. Жженовым в главной роли. Герой романа «Место, куда я вернусь», впервые переведенного на русский язык, — ученый-филолог с мировым именем Джед Тьюксбери, в котором угадываются черты самого Уоррена. Прожив долгую, полную событий и страстей жизнь, Джед понимает: у него есть место, куда он вернется в конце своей одиссеи…
Этот роман Роберта Пенна Уоррена в России ранее не издавался
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут я отложил письмо и сидел целую минуту, прежде чем снова взял его в руки.
«Но я про Перка. Мы уж давно женаты и мне с ним повезло. Мне все равно какой он с виду только стоит ему войти в дверь и я вижу, что у него на лице написано большими золотыми буквами „ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК“, вроде как неоновая реклама. И он сам этого не знает и иногда совсем расстраивается потому что вечно спотыкается и падает. Но он просто родился добрым человеком а сам никогда этого не знал. А я сразу увидела. Вот смешно-то, правда?»
На этом месте я перестал понимать, что смешно, а что не смешно, и опять отложил письмо.
Когда я собрался с духом, чтобы снова за него взяться, мне повезло: я обнаружил, что мать, которой в начальной школе так и не смогли как следует втолковать правило единства действия, перескочила на другую тему, которую, конечно, приберегла под конец. Она даже начала с новой строчки.
«От Честера Бертона ушла его шикарная жена с недвижимостью в Нью-Йорке, Лонг-Айленде и Нассау, они развелись и теперь он снова живет в родовом гнезде (то есть на ферме) в округе Клаксфорд, под крылышком у мамочки».
Значит, Дагтон все-таки взял свое.
«Я всегда знала что у него кишка тонка чего-нибудь добиться. Должно быть мисс Воображала (ты знаешь кто) устроилась куда лучше чем с ним, с кем бы она ни была, хоть Бертоны и кидались в нее грязью».
С мрачным удовлетворением — поскольку я так и не счел нужным сообщить матери, что «мисс Воображала» живет в Нашвилле, не говоря уж о ее дневных визитах в постель старины Кривоноса, — я признал, что в некоторых отношениях она, вполне возможно, и в самом деле устроилась куда лучше, чем если бы, согласно дагтонской логике вещей, снова спуталась с Честером Бертоном.
Но я не был уверен, что это для меня такое уж утешение. До понедельника было еще далеко. Я молил Бога, чтобы он направил меня на путь истинный, как пелось в гимне моего детства, но, зная себя и свои гонады, сомневался, что ему это удастся.
Во всяком случае, надо было крепиться и со страхом ждать понедельника.
Бояться, впрочем, оказалось нечего. Драматической прощальной сцены в четверг как будто не бывало. Розелла пришла вся сияющая, словно из-под утреннего душа, полная невинной радости и в восторге от какой-то известной только ей тайны, которую она отказалась мне поведать до тех пор, пока я, как она выразилась, не исполню свой долг.
— Ты ведь знаешь, — сказала она, когда долг был исполнен, — что Лоуфорд летит в Нью-Йорк в будущую среду утром? На открытие своей выставки.
Я не помнил, когда назначено открытие, но в ответ кивнул.
— Ну так вот, — продолжала она, — а я собираюсь заболеть. У меня начинается что-то скверное, вроде гриппа.
Она сделала грустное лицо и понурилась, но едва я успел что-то пробормотать, выражая свое сочувствие (и, надо признаться, удивление после того, как она только что продемонстрировала весьма бурную энергию), как она рассмеялась и сказала:
— Вот глупенький!
И объяснила:
— Понимаешь, завтра я начну киснуть и к вечеру буду совсем плохая. Желудочный грипп — вот что это будет, плюс простуда и понос. Я просто не смогу с ним лететь. Придется мне пропустить вернисаж.
И она, по-детски сияя, добавила:
— Понял, глупенький?
А потом, с деланным отчаянием на лице, продолжала:
— Только, может быть, он у нас совсем не глупенький. Может быть, он у нас только притворяется. Может быть, он у нас просто не хочет провести целую ночь со мной, бедняжкой.
Ах, вот оно что. И ведь я прекрасно знал, что все так и будет. Я вспомнил, как непосредственно после начала нашей запретной связи Розелла уговаривала меня прийти к Каррингтонам на вечер в честь приезжего поэта, а я объявил, что пусть я мужлан из захолустья, но мне будет неудобно лакать спиртное и жрать в гостях у человека, которому я только что наставил рога. Теперь же, как ни странно, меня ничуть не смутила мысль о том, чтобы скорее помчаться в постель только что уехавшего обманутого супруга и валяться с его женой на его же свежевыстиранных простынях.
Но когда два вечера спустя, в половине десятого, я невольно остановился в нерешительности на опушке леса, глядя на дом по ту сторону темного луга, где только из одного окна пробивался неяркий свет, меня заставила двинуться дальше вовсе не страсть, и не жажда приключений, и не любовь к интригам. Это было скорее ощущение, что нужно завершить некий процесс, выполнить веление судьбы.
Нет, была и еще одна причина. Мне необходимо было увидеть лицо спящей Розеллы.
После того как огромная немецкая овчарка, залаявшая было при моем приближении, узнала меня и дружески завиляла хвостом, я подошел к дому. Стоя на гранитной ступеньке перед дверью в боковом крыле, я достал из кармана пиджака холодный ключ, который дала мне Розелла. Ощупью добрался до начала лестницы и остановился, вдыхая запахи чужого дома. Когда входишь в чужой дом (а это его крыло было мне совершенно незнакомо) при ярком свете, по вполне законному поводу, в окружении людей или даже просто один, то его запахов не замечаешь — они тонут в целом потопе ощущений, но в темноте и тишине запахи берут верх. Я стоял, отпустив перила лестницы, в слепом одиночестве собственного «я», и вдыхал полный тайны воздух, а выдыхая его, чувствовал, будто с каждым выдохом черная пустота, в которой я нахожусь, высасывает из меня и поглощает какую-то незаменимую часть моей души.
Но тут на верхней площадке лестницы забрезжил свет — по-видимому, из приоткрытой двери дальше по коридору, и мгновение спустя я услышал свое имя, произнесенное едва слышным шепотом.
— Да, — ответил я, заметив, что тоже говорю едва слышным шепотом, и стал подниматься по лестнице.
На верхней площадке навстречу мне протянулась бледная в полумраке рука, нащупала мою руку и в тишине, без единого слова, без единого объятия, повела меня к полоске света, падавшего из двери дальше по коридору.
Розелла первой проскользнула в узкую щель, словно оставленную из осторожности, и приоткрыла дверь изнутри еще на несколько дюймов, чтобы я мог пройти. Когда я вошел, она тихо закрыла ее — и мне показалось, что я услышал щелчок запираемого замка. Она стояла в двух шагах от меня, прислонившись к двери, держа руки за спиной — вероятно, все еще на дверной ручке, — но ее лицо было чуть приподнято и обращено ко мне, ее широко раскрытые глаза смотрели на меня с надеждой, мольбой, доверием и робким вопросом, а их цвет и блеск были почти неразличимы в неярком свете лампы на столике около большой кровати с балдахином, стоявшей перпендикулярно к дальней стене.
Я не двигался с места. Наверное, в ее чистом и открытом взгляде было что-то новое, что-то важное, что-то такое, от чего мои побуждения и ощущения, само мое существо перенеслись в какое-то новое измерение, где все было исполнено нежности и печали, но очертания предметов стали отчетливее, словно перед наступлением ночи над водой.
И еще — я как будто в первый раз ее увидел, или, точнее, как будто в первый раз остался с ней наедине. Я вдруг заметил, что ее халат, или пеньюар, или что там на ней было — из какой-то мягкой, легкой серой материи с голубым узором под цвет ее глаз — выглядел наподобие тех, что носили лет сто назад: высокая талия, ниспадающая до пола свободными складками юбка, кружевная отделка на вороте и запястьях. Может быть, в таком же одеянии когда-то, много лет назад, стояла ночью в этой самой комнате какая-то другая женщина, глядя с тем же выражением невинности, надежды и робкого вопроса на мужчину, застывшего на том самом месте, где сейчас был я.
Я хотел что-то сказать, но успел только произнести ее имя — она подняла правую руку и приложила палец к моим губам. «Тс-с-с!» — шепнула она, взяла меня за руку и через всю комнату — очень большую для спальни — подвела к глубокому креслу с бархатной обивкой пыльно-голубого цвета, стоявшему по ту сторону кровати, у камина. На кирпичном поду камина горел небольшой огонь.