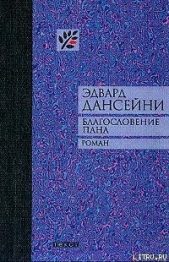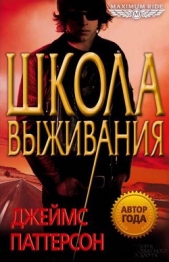Школа добродетели
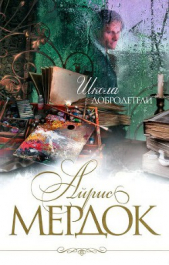
Школа добродетели читать книгу онлайн
Эдварда Бэлтрама переполняет чувство вины. Его маленький розыгрыш обернулся огромной бедой: он подсыпал в еду своему другу галлюциногенный наркотик, и юноша выпал из окна и разбился насмерть. В поисках спасения от душевных мук Эдвард обращается к медиуму и во время сеанса слышит голос, который велит ему воссоединиться с его родным отцом, знаменитым художником, ведущим затворническую жизнь…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Нет. Ты просто удивляешь меня. Ты хорошая пара Илоне.
Эдвард испытывал искушение рассказать ей о Брауни и Элспет Макран, но это было слишком опасно. К тому же он чувствовал странную сонливость. На лице матушки Мэй, гладком и спокойном, теперь появилась едва заметная улыбка, оно расплывалось, увеличивалось в размерах и плавно покачивалось, как на ветру. Вокруг лампы кружилось кольцо белых мотыльков.
— Вы меня опоили, вы добавили в это вино наркотик, у меня галлюцинации…
— Ты сам одурманил себя, Эдвард. Прежде чем приехать сюда, ты одурманил себя на всю жизнь. Я в таких вещах разбираюсь. Действие веществ, которые ты принимал, никогда не проходит, никогда не оставляет тебя. Тебе это известно? Так ты и друга убил, помнишь?
— Не… говорите так…
— Ох, все эти твои беды. Ты ничего не знаешь, ничего не видишь. Вопрос сейчас в том, способен ли ты мне помочь. Что ты можешь сделать для меня в этот момент жизни… или мне убить себя на твоих глазах? Насколько ты любишь меня? Можешь ли ты помочь мне, можешь ли любить меня, достаточно ли сильна твоя любовь?
С улицы вошла Беттина, закрыла за собой дверь. Волосы у нее были распущены.
— Флиртуешь с матушкой Мэй? — спросила она Эдварда. — Давай, пора. Ложись спать, — сказала она матушке Мэй.
Эдвард поднялся на ноги и нетвердой походкой двинулся по залу. Он оглянулся, но не увидел ничего, кроме лампы, чей свет пробивался сквозь облачко мотыльков.
Стэнфорд
Мой дорогой Стюарт!
Папа, который приехал сюда, рассказал мне, что ты собираешься все бросить. Меня это встревожило. Ты не должен так делать. Конечно, папа может преувеличивать. Из-за своих старых проблем (тебе они известны) он предпочитает думать, что у каждого есть странные мании и каждый втайне пребывает in extremis [54]. Может, он чего-то недопонял. Может, тебя просто все достало — это случается с каждым время от времени. Мыслить — значит пребывать в аду. Но если это серьезно, позволь мне попросить тебя не делать этого. Это дурная идея, это отвлеченная идея. Не хочу рассуждать о выборе между моральными ценностями и дурным бизнесом. Не то чтобы это не имело отношения к делу, как раз очень даже имеет, и для всех нас, но говорить об этом невозможно, по крайней мере в письме это неуместно. Точнее, когда говоришь глаза в глаза, легче избежать неверных формулировок. (А ты, к несчастью, за сто тысяч миль.) Я подозреваю, что добро определить трудно, а приходит оно бесконечно медленно (если приходит вообще) и складывается из миллионов едва заметных шажков. Оно не может быть «программой», верно? Даже если человек уходит в монастырь — и то не может. Платон сказал, что оно дано как божественный дар. Это, конечно, не означает, что добро — вопрос везения. Просто нужно работать и совершенствоваться. Я даже не уверен, что желание добра имеет большое значение. (Сказать, что такое желание является положительным препятствием, было бы слишком заумно!) Что я хочу сказать (я уже подошел к этому)? Я хочу сказать, что ты будешь несчастен, придешь в отчаяние, почувствуешь свою бесполезность; ты ведь интеллектуал, и ты должен мыслить. Тебе все осточертеет. А если ты все бросишь сейчас, будет не так-то просто (оцени ситуацию на рынке труда) вернуться. Так что не делай этого. Если хочешь стать «социальным работником», почему бы тебе не попробовать преподавать в университете? Это то самое и есть. Сегодня ребяткам каждый день нужно пустышку в рот совать. И потом, подумай-ка вот над чем: мир самым жутким образом сходит сума (я столько всего вижу тут), и через десять лет нам понадобятся порядочные люди, чтобы расставить их на влиятельные посты. (Ради тебя я не использую слово «власть».) Я не имею в виду только политику в узком смысле. Возможно, время узких политиков уже прошло.
А я тут тем временем живу по-королевски, во всяком случае гедонистом (каковым не являюсь). В Америке это просто. (Ну да, конечно, если ты не беден, если ты не черный и т. п.) Откровенно говоря, я счастлив. Или был бы счастлив, если бы не некоторые (надеюсь, решаемые) проблемы в области любви и секса. (Избежать этого не удается — даже тебе!). Проблемы новые, а не старые. (О вещах для тебя неприятных я, конечно, говорить не буду.) Тут все красивы — мужчины, женщины, высокие, сильные, чистые, здоровые, ясноглазые. Слушай, почему бы тебе не приехать ко мне? Мы бы обо всем поговорили. Приезжай, посмотри на земных богов, прежде чем отвернуться от рода человеческого. Приезжай, посмотри на меня.
Это только весточка. Письмо я напишу потом.
Твой Джайлс.
Стюарт Кьюно, сидевший в зале Британского музея, где выставлен фриз Парфенона, с улыбкой прочел это письмо своего друга Джайлса Брайтуолтона и сунул в карман. Он ждал Мередита Маккаскервиля. Они бегали вместе. Сегодня они собирались прогуляться. Им нужно было многое сказать друг другу. Тем не менее самым главным в общении Стюарта с парнем было молчание.
Стюарт и Мередит встречались в разных примечательных местах — иногда в художественной галерее, иногда в парке, часто в Британском музее. Это было похоже на тайные свидания, хотя, конечно, никакой тайны они из этого не делали. Через весь Лондон они добирались до места, двигаясь из разных далеких точек, пересекали пространство и время, сближались, пока наконец не находили друг друга. Эти встречи (почему-то всегда неожиданные и странные) начались довольно давно, с тех самых дней, когда Стюарт был «взрослым дядей», а Мередит рядом с ним резвился и играл, как щенок. Все это ушло, в самой сути их взаимопонимания произошли безболезненные и счастливые перемены. Теперь Стюарт ждал встречи со сдержанным, полным достоинства, самостоятельным, стройным и высоким мальчиком, с его лаконичной замкнутостью, с его тайной.
Но сейчас, хотя Мередит должен был вот-вот появиться, Стюарт размышлял над письмом Джайлса; в конце концов он решил, что слова друга просто не имеют к нему никакого отношения. Нет, он не будет страдать, если перестанет чувствовать себя интеллектуалом или ученым. Он сбросил с себя это бремя, испытав громадное облегчение, и ни в коем случае не расценивал свой поступок как трусость. (Хотя Джайлс не обвинял его в трусости — это делал Гарри.) Что касается влиятельного поста в будущем и власти во благо, то Стюарт думал (с осторожностью касаясь этой темы), что на выбранном пути он, скорее всего, сам добьется большей власти. Значит, такова была его цель? Нет. Гарри сказал, что у религиозного человека должна быть цель. (Не имело смысла спорить с Гарри о значении слова «религиозный».) Стюарт мог сформулировать свою цель только в негативном и чрезвычайно общем плане. Он хотел не быть плохим. Он хотел быть хорошим. Разве это странно? Неужели он считал себя исключительным? Сейчас, в самом начале жизни, нужно быть серьезным и оставаться в одиночестве — не в том смысле, в каком одиноки безбрачные священники, а в том, в каком одинок каждый в самом конце. Что с ним случилось, почему он вдруг перевернул свою жизнь с ног на голову? Это был вопрос извне, от другого человека. Ничего не случилось — просто так было. Он отказался от своих талантов, как отказывается монах. Монахом он не стал, но послушание принял. Неужели думать об этом — или думать вообще — было неправильно? Он не мог заставить себя не думать. Но нередко он позволял своим мыслям подниматься, как дым, и уноситься по ветру. Джайлс писал, что это не может быть программой. Гарри сказал, что все это сексуальные фантазии. Кто-то сказал, что нет пути, есть только конец, а то, что мы называем путем, это только дуракаваляние.
«Но конечно, — думал Стюарт, — мой путь — это путь любви и страсти, он отменяет время и создает его, создает свою собственную необходимость и собственный темп. Нужно только не упускать ничего. Я смогу заново сориентироваться на ходу». Он не хотел называть это ни вызывающим у него отвращение словом «Бог», ни неловким сухим старым словом «религия». Он не отвергал религию, как отвергал Бога, но в его личном языке этого слова не было. Это была насущная страсть, насущная любовь, такая сложная, что ее привлекало только то, что свято. Что за устройство; как трудно и в то же время легко все это. Бог, если воспользоваться словами Томаса, был удобным, постоянным, не подвластным порче объектом любви, автоматически очищающим желание. Но так же должно происходить и без Бога. Разве не может человек чувствовать такую же любовь ко всему в мире? Где-то в глубине его слабости скрывалось желание увидеть некий знак, чтобы воссиял не оставляющий сомнений свет. Но разве этот свет не освещал все, в том числе и зло? Можно ли оставаться безучастным созерцателем зла? Даже страдания созерцать нелегко — таинственные ужасные неприкосновенные страдания других людей. Страдания Эдварда. Страдания животных. Страдания всей планеты, отягощенной бременем невзгод, несправедливостей, неутолимой скорби. Все творение стонало и мучилось в несчастье и грехе. Здесь нет решения; даже если наступит конец света, нет ни святого старца в пещере, ни работника в поле либо офисе, который знает ответ. Это негативные вещи, деградация мышления. Взломать дверь святости и знания каким-нибудь тонким, но очень чистым инструментом — разве не это было когда-то его целью? Откуда, черт побери, берутся такие идеи? И такие образы — хирургические, сексуальные? Что это, безумие или экстаз? Избавление от этих амбиций и формул сопровождалось отрадным ощущением, словно открываешь глаза в полной темноте. Встань на колени, и пусть темнота поглотит тебя, встань на колени и попроси прощения за грех бытия. Кто-то сказал, что Бог — это кипение в темноте, огромное темное кипение постоянно воссоздающего себя бытия. Что-то в этом роде видел и Ките. Мистический Христос, идущий по кипящему морю. Христос в чистилище. Ангелы, обнимающие кающихся грешников на картине Боттичелли.