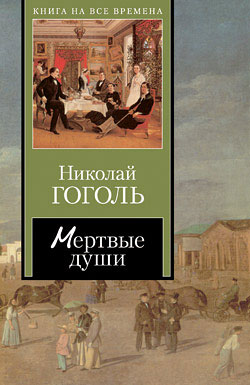Мертвые хорошо пахнут

Мертвые хорошо пахнут читать книгу онлайн
Эжен Савицкая (р. 1955) — известный бельгийский писатель, автор причудливой прозы, в сюрреалистических образах которой не ведающая добра и зла энергия детства сливается с пронизывающими живую и неживую природу токами ищущих свой объект желаний, а заурядные детали повседневного быта складываются в странный, бесконечно мутирующий мир.
В сборник включены избранные произведения писателя.
Все тексты печатаются с учетом особенностей авторской пунктуации
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И все же почти все вошедшие в эту книгу тексты, даже, так сказать, «Свадебка», не только проходят по разряду прозы, но и помечены автором/издателем как романы; так что читателю приходится волей-неволей спрямлять, сглаживать нелинейный дрейф повествования, чтобы скользить по привычно гладкой линии чтения, закрыв глаза на ее прерывистость. Вот, для начала:
«Мертвые хорошо пахнут». Синопсис.После смерти, насильственной смерти всеми любимой королевы король посылает своего странного, особо преданного пажа на поиски нового места жительства, дома-дворца, микро-царства, в котором он мог бы начать новое существование, новое царствование. Странствия сего бессловесного, андрогинного, но обремененного всей изощренностью и извращенностью старого царства (воплощением каковых оказываются соответственно данная ему в дорогу книга — в соседстве с другим, уже не земным, а небесным орудием познания, яблоком, причем не одним — и открывающая текст процессия) посланника оказываются не столько открытием новых миров (много ли мы узнаем о Китае или Казани, через которые он проходит?), сколько его инициацией, причащением к изощренности и извращенности мира. По ходу своих скитаний Жеструа проходит через вереницу самых разных жилищ, от эскимосских чумов до средневековых замков, познает всевозможные формы жестокости, оборачивающейся в скрещении с сексуальностью извращениями на любой вкус: тут и инцест, и зоофилия, травестизм, гомосексуализм. Но взросление героя, обретение им голоса, друзей, овладение письменным словом, многократное, травматическое приобщение к книге не помогают ему в поисках обиталища. Все кончается в Льеже, но здесь нет дома ни для него, ни для его друзей, а сам город смердит.
Итак, если «Мертвые хорошо пахнут» — роман, то роман хаоса, роман чрезмерной, бьющей через край чувственности, шутовской и в то же время мрачно-заупокойный роман, не столько эпопея, сколько скатологическая мениппея, прослеживающая похождения наивного героя, Жеструа, чей аппетит оборачивается волей к разрушению и оказывается основным способом охвата — скорее захвата — реальности. Роман ненасытности (или, с польским акцентом, ненасытимости),где овладение новым проявляется в безудержном поглощении и присвоении, то есть отрицании и вымарывании. Текст, по сути, ни о чем не повествует, он представляет, показывает словамичереду насыщенных насилием движущихся картин, в равной степени барочных и порочных, хотя слово порок не имеет смысла в той вселенной, где он развертывается: соответствующее понятие здесь просто не выработано. Его образы иллюстрируют зашкаливающие всплески жестокости — вполне по Арто, как должные нарастания интенсивности чувств, — но эти картины никоим образом не выстраиваются в связную линейную последовательность, не вписываются в единую перспективу, не нанизываются ни на какую отличную от беспросветно темного желания нить. А само это желание в любую секунду готово сменить и свой предмет, и своего носителя. И поэтому, в отличие от Арто, здесь нет никакой драматической оси: драма разыгрывается в совершенно другом пространстве.
Жеструа… Но прежде отступление об именах, каковые ценны автору своим звучанием, подчас аллюзиями. Бывает, они кочуют из текста в текст: не только Конспюата, как у нас в книге, но и самого Жеструа (жеструа, почти геста рерум— деяния короля? король-деяние? деятельное начало тирана-визионера?) можно встретить и в другом тексте, на сей раз за пределами нашего изборника, в примыкающем к «Мертвым», но выделяющем другой, военный аспект насилия романе «Исчезновение матери», где, заметим, он упоминается в качестве «свирепого воина». Подчас приходят, как говорящий пес Берганца, из чужих произведений, подчас, как Жан Коломб,обладают, ко всему прочему, нарицательной составляющей, подчас за ней прячутся, как скрывается за многочисленными цаплямифамилия отца писателя…
Итак, Жеструа — или его проекция, многоликий, фасеточный срез мира вокруг него — в бесконечных оргиастических празднествах пытается быть с реальностью на равных — глотает или по крайней мере разжевывает, разминает, крошит ее. Жует книги, вскапывает землю, сбивает желуди, собирает и раздает семя… В зеркале текста этим безудержным тратам плоти и материи соответствует складирование языка в перечнях, безумие собирания и учета, ветвящиеся списки и повторы, наплывы и отступления, путаница голосов, репризы и аватары, тавтологии, разнобой и несостыковки повествования, горячечность жестов — все это ввергает нас в растерянность и сомнения. Хотя в этой книге и есть явно заявленный, пусть и расколотый на множество осколков, сюжет, раскромсанная сюжетная линия, автор выступает здесь антиподом излюбленного американской литературой (или Беньямином в лице Лескова) рассказчика, storyteller’а,демонстрирует отсутствие всякой story— назови ее повествованием или ученым, дуррацкимсловом наррация.И в пандан к этому именно здесь, пожалуй, достигает высшей степени свойственная Савицкая необузданность, сочетание поэтической компрессии с синтаксическим загулом — при отточенности слога и изысканности откровенно мелодичного звучания. Ну и «перекручивает снежок» Савицкая, конечно же, совсем не так, как наш, московский гоголек, — никакого кавардака анапестов.
Еще про жестокость: даже у Арто она не знает такой степени непорочности: невинности.
Что касается образов, многие почерпнуты в «Мертвых» из самой, наверное, знаменитой иллюминированной книги в мире, «Роскошного часослова герцога Беррийского», точнее, из миниатюр гениальных братьев Лимбургов и позднего довершителя их трудов Жана Коломба, представляющих календарную ее часть, месяцы года. Если достаточно буквально в тексте представлены только две миниатюры — февральская заснеженная мыза с ее задравшими подол обитателями и сбивающий палкой желуди для свиней ноябрьский пастух, — то мелких, конкретных деталей почерпнуто из календаря куда больше, а сама сюита месяцев то и дело вторит изобразительному ряду миниатюр: пахота и пара волов в марте, обручение, полевые цветы в апреле, изысканное зеленое платье в мае, летние труды и дни сенокоса и жатвы, августовское купание голышом и соколиная охота, октябрьский сев озимых, лучник-пугало, сеятель в синей хламиде, жернов на бороне… Признаюсь, что выбрал для перевода именно «Мертвых» из-за своей давнишней, детской любви к «Часослову» Лимбургов; иначе бы я, наверное, предпочел соседствующее с ними по времени написания и темам «Исчезновение матери».
Наряду с Лимбурговым часословом и Жаном Коломбом с его голубиной темой здесь можно уловить и другие отголоски — правильнее сказать, отражения — живописи вообще (Суавиус, китайская живопись тушью) и нидерландской живописи золотого, пятнадцатого века в частности: тут и красивые эннены, и просвечивающая между строк в зеркале чета Арнольфини…
Немудрено, что один из наиболее значимых (пусть и небольших) своих текстов Савицкая посвятил другому живописцу этой эпохи, своему, быть может, alter egoИерониму Босху [36]. Здесь, получив карт-бланш от издателей, он поставил себе целью не столько написать эссе о художнике, сколько перевести его живопись на язык прозы, переложить странный изобразительный текст живописца на свой литературный идиолект, но уже не буквально перенося его образы, как было с Лимбурговыми миниатюрами, а целиком вторя его жесту. Возник текст, в котором ни разу не упомянуто имя Босха, ни разу не возникают конкретные живописные реалии с его картин, как бы параллельный монолог, пытающийся уловить общее во взгляде двух художников на жизнь, разобраться и в феномене Босха, и в собственном письме.
Собственно, уже сама живопись Босха в некотором смысле неоригинальна: это как бы перевод текста остальных чувств (скажем, осязания, обоняния, вкуса и слуха) на традиционный живописный язык, язык визуальности. Живопись у него из парадигмы изобразительного искусства превращается в поле взаимодействия и игр других художественных сред (в ином контексте похожую стратегию изберет веками позже Магритт). Босховские образы зачастую нагружены тем, что привносят иные, отличные от зрения чувства, лейтмотивны для него и невыносимый жар, и зловонные лужи, и прожорливость поглощения, не говоря уже о пресловутом гвалте его музыкального ада. Сплошь и рядом отдельные зоныбольших картин художника попросту отражают главенство здесь и теперь того или иного конкретного чувства, в качестве иллюстрации опять же помянем музыкальный ад.