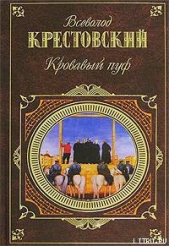Пастух своих коров

Пастух своих коров читать книгу онлайн
В книгу вошли повести и рассказы последних лет. Также в книгу вошли и ранее не публиковавшиеся произведения.
Сюжеты и характеры полудачной деревни соседствуют с ностальгическими образами старой Одессы. «Не стоит притворяться, все свои» — утверждает автор.
По повести «Пастух своих коров» снят художественный фильм.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мотоцикл остановился.
— Опять по чану? — посочувствовал Карл.
— Где? — трагически развёл руками Валера. — Дело не в этом. Дороги нет. Давай хоть в посадку, посуше всё-таки, а там — подумаем.
Посадка уходила от шоссе под прямым углом, вдоль чёрного просёлка с растекающимися следами тракторного протектора. Была она шириной метров пятнадцать и состояла из абрикосовых деревьев, подрагивающих под дождём розоватыми верхушками, чахлых акаций и диких дюралевых маслин. Абрикосы уже сошли, и остатки их догорали в серой траве. Трава была почти сухая — дождь стекал по стволам акаций тёмными чешуйчатыми струями.
«Костёр, что ли, развести», — лениво подумал Карл, пошарил глазами и наткнулся на голубеющие вдали пятна.
— Пойдём посмотрим, — решил он.
Несколько десятков ульев: голубых, жёлтых и красных, выглядели фантастически нарядно; представились весёлые гномы, застенчивые Белоснежки и вкусная еда. Из армейской палатки выглянул хмурый дед, исчез и стал выползать задом, волоча за ремень двустволку.
— Стой, стрелять буду, — равнодушно сказал он, выпрямляясь и растирая поясницу. — Кто будете такие?
Дед был небольшой, с короткими усами над запавшим ртом и круглыми твёрдыми щёчками.
Неожиданно для себя художники наперебой стали рассказывать о своих приключениях, о том, как упали — «видишь, всё аж чёрное», — о похоронной процессии, о том, что…
— Стой, стрелять буду! — округлил глаза дед. — Йисты хотите? О то ж. Тодi ехайте до конца посадки. Там будэ село. У третий хати, коло почты, возьмете белого вина — скажете, дядя Федя велив. И — сюды. Тильки — на вашу душу. В мене грошей нема.
— Так не проехать, — сказал Гауз.
— Один пройиде. Побоку. Вот ты, — ткнул он в Карла.
— Да я не умею, — засмеялся тот.
Дед задумался:
— Тодi — ты!
— А что, Гауз, — сказал Карл. — Может, правда…
Валера, матерясь, тяжело вывел мотоцикл на дорогу.
— Без меня не пейте, — мрачно пошутил он.
Разъезжая по сёлам, Карл автоматически переходил на украинский язык, несколько литературный, разговаривал с удовольствием, хоть и не без труда. Дед же, видимо, из вежливости, старался говорить по-русски.
— Вот я тут сторожу вулыки. Улии, значит. А знаешь, какой я був хозяин! Господарство у меня було — во! — Дед грозно посмотрел на Карла.
— Та де ж воно?
— Погорив, — поник плечами дядя Федя. — Вщент погорив.
— А как?
— А так. Леглы спать. Я до Гани, а вона — не дае. Я знову до Гани, а вона знову не дае. Повернулась сракою и спыть. Что делать? Лежу соби. Дивлюсь — щоть блещить. Я кажу: «Ганя!», а вона: «Га!» — «Хрин тоби на! Хата горить!» Повыскакували, а хата сгорила. Председатель утром приехал. Посмотрел и говорит: «Вот тебе, Федя, за все наши грехи». Заплакал, достал пять рублив и каже: «На!»
С рёвом выскочил из грязи забрызганный Брандгауз, прислонил мотоцикл к дереву, победоносно вытряхнул из холщёвой сумки три бутылки мутного самогона.
Сухая акация горела без дыма, серый день перетёк в серые сумерки, редкие капли падали с листьев, самогонка пилась легко, и опьянение было прозрачным. Были у деда помидоры и кривые огурцы, и белый крошащийся хлеб, и жареные отсыревшие караси, и чёрная редька.
— Хиба це редька, — сетовал дядя Федя. — В моём господарстве такая редька була! Вырастил я как-то для областной сельскохозяйственной выставки. Чтоб и колхоз прославить, и себя не забыть. Ну, вырастил и тащу. А вона не лизе. Кажу: «Ганя, помоги». Ганя вчепилась в мене и тащит. Не лизе. Внучка из школы пришла. Кажу: «Маруся, помогай». Ну, вона в бабу вчепилась. Тяжем. Не лизе. Тут Полкан над вухом як гавкне! Мы тут уси и попадали. Вот така редька була! Як твоя голова. Ни — як твоя!
В темноте дождь зашумел с новой силой. Всё уютнее становилось у костра, просторнее было на душе.
— Дядя Федя! — воскликнул Карл. — А знаешь Коцюбинского?
— Который с базы? То вин — Коцюба.
— Да нет! Слухай:
«Идуть дощи. Холоднi осiннi тумани клубочаться вгорi, опуская на землю мокрi коси. Пливе в сiрiй безвiстi нудьга, пливе безнадiя, i стиха хлипае Сум… Нема простору, нема розваги…»
— Ух ты, — таращил глаза дядя Федя. — Та после таких слов! Все, хлопци, — кричал он, — я з вами! Погорив так погорив! Малювать буду, вирши сочинять буду, песни спивать буду! А вулики зараз геть на дорогу повыкидаю!
Костёр потихоньку догорал, печально угасала песня:
Гауз заснул сразу. Дядя Федя ворочался, сучил ногами по стенке палатки и что-то бормотал. Карл прислушался.
— Идуть дощи, — вздыхал дядя Федя. — Нема простору, нема розваги…
ДЕЛО ЧЕСТИ
Это произведение трудно было назвать плакатом, хоть и нарисованы на нём были белые слова «Хлеб — Родине».
Загорелая белозубая дивчина высоко держала огромную паляницю с хрустальной солонкой на вершине, белое платье её переливалось тяжёлым шёлком, алая вышивка обрамляла загорелую шею.
Густые гроздья винограда, тёмного, как ночь, и белого, продолговатого, касались её плеч, из-под резных листьев высовывались жадные витые усики, розовой косынки касались коричневые груши и мощные яблоки, голубые в тенях и жёлтые на свету, с вплавленным посередине белым бликом. И другие — ярко-зелёные с тонкими красными рисочками. Сверху было синее небо с нарезными, как батоны, облаками. Хрустальная солонка сверкала ломкими лучиками.
Написал эту картину местный художник, сидел долгими вечерами в клубе, не пил, не ел, разве что немножко. Местное начальство любило художника, даже гордилось им, даже портреты иногда заказывало. Лица на портретах получались очень похожие, как живые, тонко выписанные, лучше, чем на фотографии.
Но в райкоме считали, что какой ты ни есть самородок, хоть семи пядей во лбу, а наглядная агитация — дело политическое и приведена должна быть к единообразию и приличной манере, чтобы всё как у людей. Тем более, что выделяются на это немалые деньги.
Карл вздохнул. С каким удовольствием он написал бы что-нибудь подобное, переплюнул бы даже, ей-Богу, только придётся заменить всю эту красоту «приличной манерой» — выкрашенные геометрические пятна, резкие мужественные лица, разобранные по плоскостям. Приличная эта манера называлась ещё «смелой».
— Театр абсурда, — чесал кучерявый затылок Карл. — Власть требует от меня смелости.
Валера Брандгауз разогревал на примусе обед — варёное мясо с рисом и помидорами. Прозрачная тень беседки не спасала от жары. Над левым и правым виском кружило по мухе.
Во двор вошёл незнакомый человек в серой одежде, с круглым лицом и доброжелательным брюшком. В руках у него был рулон ватмана.
— Приятного аппетита, — поздоровался он. — Нет ли у вас кнопок?
Заметив недоумение, он вежливо представился, скинув серую кепочку:
— Зэк Ведмедев. Пять лет с конфискацией имущества. Врач. Избавлял ребят от воинской повинности. Разумеется, за приличное вознаграждение.
В селе Базарьянка было два предприятия — винзавод и тюрьма. Ведмедев отбывает уже второй год, дисциплинирован, пользуется доверием — его даже выпускают погулять по селу, в магазин ли или просто так, глядишь, и освободят досрочно.
Сейчас он делает стенгазету и, узнав о приезде одесситов, не преминул засвидетельствовать своё почтение.
— О нас уже знают в тюрьме? — не поверил Карл. — Да мы здесь третий день!..
Ведмедев усмехнулся и ткнул пальцем в Гауза:
— Вы — Валерий Брандгауз. А вы — Карл.
Работа двигалась. Медленнее, чем нужно, но быстрее, чем хотелось. Жили они в пустующей хате — совхозном общежитии для сезонных рабочих. В полдень порог заливало солнце, как на картине Лактионова «Письмо с фронта». На пороге вспыхивали белые куры с алыми гребешками, гасли, клевали прохладный земляной пол.