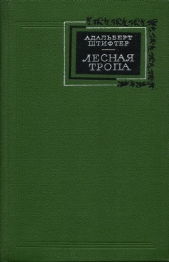Избранное
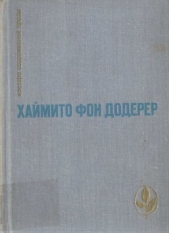
Избранное читать книгу онлайн
В книгу крупнейшего современного австрийского прозаика, классика национальной литературы, издающуюся в Советском Союзе впервые, входят его значительные произведения: роман «Слуньские водопады» — широкое социальное полотно жизни австрийского общества на рубеже XIX–XX вв.; роман «Окольный путь» — историческое повествование с замысловатым «авантюрным» сюжетом из жизни Австрии XVI в., а также ряд повестей и рассказов.
Произведения, включенные в настоящее издание, опубликованы на языке оригинала до 1973 г.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Так мы и сделаем, господин директор! — сразу согласилась она. — А у вас дома есть что-нибудь съестное?
— О да, — ответил он, — все необходимое. (Венидопплерша, став еще старше и еще зауряднее, если такое вообще возможно, делала для него покупки.)
Пратер еще не полностью очнулся от зимней спячки, еще не бурлил, как в жаркие летние дни, когда в открытых кафе у Главной аллеи играли военные оркестры, хорошо слышные тем, кто стоял за оградой, а по проезжей части двигалась вереница экипажей и фиакров. Автомобили в те времена, пятьдесят лет назад, туда вообще не допускались. Пешеходов все прибывало и прибывало, а из балаганов Пратера доносились органные звуки карусели, над купами деревьев уже возникло некое подобие того молочного светового тумана, который в разгар сезона даже затмевает звезды. Они прогуливались вдоль аллеи и вновь сошли с нее возле горы, производящей странно ненатуральное впечатление, которую называли Константинов холм. Наверху было темно, ресторан еще не открылся. Сейчас проводником был Хвостик, так как Монике многое здесь казалось незнакомым; между домами они вышли обратно к Дунайскому каналу, много выше моста, почти там, где жил дядя Моники, доктор Эптингер.
Здесь ходил канатный паром через канал, и он все еще работал, несмотря на наступившую темноту. Горел одинокий фонарь. По лестнице они спустились к воде.
Спускаясь по этим ступеням, выбываешь из взаимозависимости улиц и твердой земли, да, уже одним тем, что хочешь переехать через поток, тем, что направляешь свои стопы к береговому откосу. Хвостик, который вот уже долгие годы частенько пользовался этим паромом, когда хотел попасть в Пратер, до сих пор всякий раз воспринимал это именно так, хотя и в сокращенном варианте — из-за частого повторения.
Внизу несколько человек уже ожидали на маленькой пристани, этой пристанью служил стоящий на якоре понтон. Канал здесь рассекает городской пейзаж, вместе с ним в него врывается даль, из которой течет канал, образуя во тьме дугу редких фонарей. Когда паром причалил к берегу и его немногочисленные пассажиры ушли, нашей паре оставалось только спуститься на три ступеньки в глубь судна и заплатить десять геллеров. И вот уже паром опять отчалил, зазор между ним и причалом стал шире, паромщик, стоя на корме, с помощью руля слегка регулировал ход. Канатный шкив, бежавший по натянутому через канал тросу, сейчас не был виден. Стремительно текущая вода была совсем близко. И вот они уже на другом берегу.
Они спустились по сходням, прошли по пристани и вышли в переулок, почти вертикально сбегавший к каналу. Здесь все было застроено. И напротив углового дома, где жил Хвостик, вытянулся ряд новых зданий (вид на Пратер теперь был закрыт). Входную дверь еще не запирали. Венидопплершу мы игнорируем. Возможно, она, по своему обыкновению, уже заглянула в глазок. Пусть ее.
Моника чувствовала себя легко, приятно и спокойно. Этот вечер как бы приподнял ее над самою собой. Она не понимала, каким ветром ее сюда занесло (на сей раз это был полный штиль по имени Дональд). Вновь и вновь перед нею возникал портрет Роберта, да, она сама была как бы в глубине этого портрета и тем самым отдалялась от всего, что угнетало и подавляло ее в эти последние недели. Теперь, казалось, с этим покончено, и все объясняется незначительным заблуждением, в котором она так долго пребывала. Это было как пробуждение от тягучего сна — тебе снится, что ты находишься в замкнутом пространстве, не имеющем выхода. И все-таки — когда она так проснулась здесь, теперь — Хвостик по-прежнему остался для нее поддержкой, от которой она не желала отказываться.
Он тем временем торопливо орудовал на кухне — а Моника сидела в той задней комнате, где старый дамский письменный столик соседствовал со все еще новой с виду мебелью от «Портуа в Фикса», — и через десять минут импровизированный ужин был уже на столе, сардины, белый хлеб, масло — что держит в доме старый холостяк?! — и открытая бутылка бордо.
Для Хвостика эта ситуация со всеми ее частностями была как некий успокаивающе блестящий предмет, вроде маленькой элегантной серебряной корзиночки, которая сейчас со сладостями стояла на столе (подарок Мило, а Венидопплерша постоянно начищала ее до блеска). Комната была освещена по-новому, доселе незнакомый ему мощный осветительный прибор сиял в его маленькой квартире, да, это был парадоксальный восход солнца сразу после заката. Но все это он переживал без того досадного и прискорбного иронического взгляда на себя со стороны, и это уже само по себе было чем-то чрезвычайным.
Итак, все происходило как бы над ним и так им и воспринималось. Моника же с самого начала, и теперь в этой обстановке особенно, прониклась доверием к Хвостику. Это свидетельствовало о ее здоровом инстинкте. Ибо здесь на нее взирали как на сошедшую с неба звезду, с изумленным благоговением, и наш старина Пепи кружил вокруг этой звезды, как едва различимый, почти темный спутник. И мило прислуживал ей, а она с аппетитом ела. Один раз, повернувшись к нему в профиль, она на секунду напомнила Хвостику кого-то, кого он некогда, очень давно, знал, но это было так бесконечно далеко, а ему не хотелось ничего приближать. Теперь ему показалось, что в ней есть что-то французское (или то, что он понимал под французским). Может быть, это брало начало в Швейцарии, где Моника воспитывалась. Она рассказывала о Швейцарии. Короче говоря, он наслаждался ее присутствием, он был свидетелем ее присутствия и своего собственного тоже. В этом возрасте перед нами, а уже не перед библейскими свиньями жизнь мечет свой бисер. Нет, мы отчетливо видим, как катятся бисеринки, так бильярдист следит за блестящим шаром на сукне, зеленом, как луг, в спертом воздухе излюбленного, но весьма заурядного кафе.
Мы знаем скромные привычки Хвостика в той, обращенной не к нам стороне жизни, мы однажды уже повернули ее к себе. Сейчас ему, так сказать, с неба на колени упала звезда, а это случается сравнительно редко, с иными и вовсе никогда; и она тоже, чувствуя себя утешенной, с доверием отнеслась к исключительности этого плавучего острова в потоке времени, острова, который ни к чему ее не обязывал, где не надо упрямо биться в будущее головой, раскалывающейся от разных вопросов, более того, можно остаться в настоящем, в состоянии райской невинности, как на одном из тех счастливых островов в южных морях. А разве не была она спасена от кораблекрушения, оставаясь между прежней и вновь начинавшейся жизнью, свободная от этих обеих жизней для невинного настоящего? Ибо чистое настоящее с его приятной поверхностью, без забот, без оглядок, лишено обязательств и угроз, и там, где нам это удается, мы в самом деле возвращаемся в нашу детскую. Увидев в спальне Хвостика белый вращающийся столик на одной ножке, она засмеялась и сказала:
— Такой же стоит в кабинете у моего папы. Как ночной столик он действительно очень мил.
Но Хвостик ничего на это не ответил (хотя мог бы ответить). Он обнял свою звезду, которая теперь светилась белым сиянием.
Наш старина Пепи по-прежнему пребывал в благоговении перед однажды зашедшей к нему стройной богиней, чей повторный визит он считал абсолютно невозможным и который действительно не повторился. Где бы он потом — и надо сказать, нередко, — с нею ни встречался, она всегда оставалась для него носительницей добра, и он со старомодной галантностью склонялся к ее руке.
Моника так никогда и не осознала, что в той ситуации вела себя ничуть не лучше, чем ее столь резко порицаемая подруга Генриетта в истории со Зденко. И если бы кто-то мог сказать ей об этом, она, несомненно, возразила бы: «Но тут же совсем другое дело».
Между тем у нее было слишком мало досуга, чтобы такого рода открытия и внутренние диалоги могли войти в обыкновение. Ибо Роберт Клейтон позабыл об игре в гольф — сезон ее вскоре должен был наступить, — он даже забыл на некоторое время о своей конторе и о курении трубки, стиль которого странным образом переменился в те решающие дни. Прямая трубка больше не свисала изо рта, как обычно свисают изогнутые; теперь Роберт, когда был один — а теперь он искал одиночества, — горизонтально держал ее в руке и курил торопливыми короткими затяжками. Затем Роберт бодро перешел в наступление.