Только один человек

Только один человек читать книгу онлайн
Гурам Дочанашвили — один из ярких представителей современной грузинской прозы. Ему принадлежат рассказы, повести, романы, эссе. Русскому читателю Г. Дочанашвили знаком по книгам «Там, за горой», «Песня без слов», «Одарю тебя трижды» и др.
В этой книге, как и в прежних, все его произведения объединены общей темой — темой добра, любви, служения искусству. Сюда вошли как ранние произведения писателя, такие, как «Дело», «Человек, который страсть как любил литературу», «Мой Бучута, наш Тереза» и др., так и новые — «Ватерполоо», «И екнуло сердце у Бахвы» и т. д.
В исходной бумажной книге не хватает двух листов - какой-то варвар выдрал. В тексте лакуны отмечены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А Гайоз Джаши, улучив минуту, стоял в это время на балконе с высоко задранной головой и сравнивал меж собой сладкозвучные слова. Но вскоре ему опять пришлось сесть: продолжив свой рассказ, Шалва теперь восторженно говорил о роли слуг — этой главной движущей пружины, души и сердца каждой комедии дель арте. На этих двух выходцев из деревни, — в частности, из провинции Бергамо, — приехавших в город на заработки, венецианцы, исполненные к ним глубокого презрения, смотрели свысока, считая, как все горожане, что если мужик глуп, то это уж окончательный болван, если же он умен, то непременно воришка, плут и пройдоха. «Пусть это останется между нами, — понизив голос до шепота, прервал его добряк Гриша, — но в общем это, пожалуй, и правда так... Стало быть, и тогда...» А Шалва уже пошел дальше: «Но удивительнее всего то, — говорил он, — что эти спустившиеся с гор бергамцы отличаются на поверку исключительной живостью ума и находчивостью, чего отнюдь нельзя сказать о жителях равнин, которые выглядят рядом с ними полнейшими простофилями, а между тем, во многих других странах это совсем наоборот, хм. — И вдруг, расплывшись в широкой улыбке, объявил: — Один из этих двух слуг звался, оказывается, Бригеллой. Матерый хищник, предприимчивый, ловкий, пронырливый, Бригелла в любую минуту ощущает себя как главнокомандующий на боевом аванпосту. Он считает, что ничто не должно происходить без него; он всюду сует свой нос и беспрестанно треплет длинным, хорошо подвешенным языком, объясняя свою чрезмерную болтливость тем, что отец его был немым и ему завещал свои неиспользованные возможности. Он всегда готов признать свою вину и принимает любую вздрючку со смиренным и покаянным видом, но он никогда ни о чем не забывает, и нет случая, чтоб ему не удалось так или иначе отомстить. Лучше Бригеллы никому бы не удалось распустить любую сплетню, поднять невероятнейший переполох, развести страшную сумятицу. С хозяином он — первейший обманщик, с женщинами — балагур и пустобрех, со стариками — наглец. А что касается храбрости, то, как говорится, он молодец на овец, а на молодца и сам овца. Перед человеком, в котором он чувствует силу, Бригелла стелется ковром и навязывает ему любые услуги. Голова у него набита всевозможными хитрыми проделками, он не верит ни в бога, ни в черта и, конечно же, любит золото, вино, женщин; ко всему тому он, негодяй, большой мастер бренчать на гитаре. Самое разлюбезное для него занятие — это пошататься по ярмарке. В белых брюках и в сорочке из домотканого полотна, с болтающимся у пояса кисетом, он слоняется туда-сюда, заводит, независимо от товара, разговоры с каждым продавцом, болтает, дурачится с ними, сыплет шутками-прибаутками, исподволь все больше подтрунивая над своим собеседником; по-базарному хохочет, вольничает, но на всякий случай постоянно таскает за собой преглуповатого Арлекина, чтоб в случае чего, — если разыграется какой угрожающий переполох, — сразу вместо себя подсунуть его, беднягу, в самую гущу сумятицы или даже потасовки, а самому незаметно отойти в сторонку. И уж как он оттуда, издали, насмеется-нахохочется, этот паршивец. Ненавистнее всего для него скука, и если ему нечем себя занять и хоть как-то позабавиться, он находит где-нибудь Доктора и начинает его с притворным интересом расспрашивать о тайнах природы или сокровенной сути вещей, а когда тот, придя в экстаз, пускается в напыщенное краснобайство, приляжет себе на бочок и только исподтишка похихикивает. Прислуживая Панталоне, он то спрячет от него колпак, то запихнет куда-то очки, то опрыскивает водою постель, то подсыпет перцу в печенье. Короче, такого слугу и заклятому врагу не пожелаешь.
Гайоз Джаши, причастный к совсем иным сферам, смотрит на улыбающихся братьев с открытым ртом, — что они нашли во всем этом смешного! — и, чтоб преодолеть свою растерянность, обращается памятью к словам, кованным как халибская сталь, тихо, но твердо про себя повторяя:
победоносно взглядывая нет-нет на братьев. На сей раз растеряны они, теперь они глядят куда-то с широко раскрытыми ртами; Гайоз Джаши прослеживает взглядом, на что это они так уставились вытаращенными глазами, и что же видят все четверо: вышагивает этот наш давешний жалкий Киколи по самой середке сельской дороги, важный-преважный, надутый, напыженный, со знаками различия на плечах, и так уж он надменно-горделив, что к нему не подступись. Только что наряд на нем какой-то странный: поверх чохи с архалуком накинут европейский фрак, или как он там называется, на голове — лоснящийся, поблескивающий под солнцем цилиндр, пальцы унизаны сверкающими, как звезды полдня, перстнями, в карманах при каждом шаге позвякивает золото, в руках — украшенная жемчугами трость, которая вроде бы ему без надобности — он не хромает и ничего такого; на ноги натянуты мягкие азиатские сапоги, под поясом колышется жирное брюхо, на грудь ниспадает двойной подбородок; следом за ним поспешают проворные слуги, несут мебель, серебро, скатерть-самобранку, дачу, хрусталь, еще и еще что-то, гонят скот; поглядел Киколи на этих наших братьев и как будто бы признал их, потому что чуть заметно вскинул-опустил сросшиеся брови, — а, впрочем, может, он этим подал какой-то особый знак, ибо шустрые слуги тотчас же поднесли ему золотой потир с чем-то белым. Что это? — спрашивает Киколи. — А это-де птичье молоко, великий господин. Отпил глоток Киколи, глянул вверх, повел глазами в одну, в другую сторону: да ничего, мол, в нем нет такого особенного, оказывается, дребедень какая-то, зря только расхваливают. А потом тут же: устал я. Подвели тут ему пегую, точно смесь разносортной икры, лошадь и принялись подсаживать его в седло, да уж до того засуетились, до того перестарались, что Киколи возьми да и плюхнись наземь по ту сторону коня. Пыль поднялась... аж свет застило. А когда пыль улеглась, приподнял Киколи голову, но уж без цилиндра — свалился цилиндр — и давай костить вдоль и поперек: бууу-бу-бу, такие вы, разэдакие, да и хуже таких-разэдаких, кроет, материт направо и налево, хорошо хоть голос хриплый, зато глазами сверкает — ууу! — громы-молнии мечет да и только. Засуетились вокруг него слуги-прислужники, подняли всего вывалявшегося в пыли-грязи, почистили спину и пониже павлиньими перьями, привели в изначальное состояние фрак, до блеска начистили цилиндр, посадили вновь на пегую лошадь и двинулись за ним следом под гору.
Только один слуга остался сидеть с каким-то вроде бы горестно-отчужденным видом у края проселка, держа в руке плетку. Очень уж он казался чем-то опечаленным.
Подошли к нему братья.
— С чего это ты так пригорюнился?! — поинтересовался склонный полюбопытствовать Гриша.
— Люблю, — сказал тот, и не вспомнив про плетку.
— Кого любишь?
— Мохевку Тину.
Братья смерили его взглядом с головы до ног.
— Очень любишь?
— Да-ах!
— А она любит тебя?
— А откуда мне знать.
Правдолюб Гриша усомнился.
— Кабы ты сильно любил, то отводил бы душу в слезах и стенаниях.
— А чего мне плакать-то, — пренебрежительно поглядел на них тот снизу вверх, — я же вам не Тариэл.
— А как звать тебя?
— Авто [41].
Братья заново к нему пригляделись.
«Может, я и вправду утопист, — подумал, маясь душою, Васико. — Как покинул четыре стены, так даже в беседу вмешаться не могу».
— Эх-ма, нет больше любви, — на словах опечалился Гриша. — Эх-ма, не плачут больше из-за любви.
— Как так нет, — всполошился пригорюнйвшийся и распахнул грудь, — а это тогда что такое?
Поверх сердца снаружи было написано — «Тина».
— Это ты натворил зря, право слово, зря, — нахмурился Гриша. — Я, брат, чувствую по всему, что не так уж и любишь ты эту женщину. Может статься, ты какую-нибудь другую возьмешь в жены, допустим, Ахметскую невесту, или очень хорошо знавшую дорогу к роднику Теброне , и привезенную через Каркучи прекрасноволосую Маико, что «не перестает сверкать черными глазами» [42], — и вот тогда эта татуировка будет постоянно наводить твою жену на подозрения, и будет тебе от того вечная докука.
![Сатанстое [Чертов палец]](/uploads/posts/books/150862/150862.jpg)
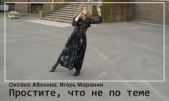
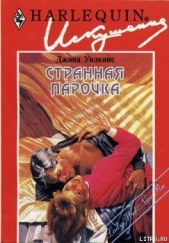
![Там, за поворотом [СИ]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)






















