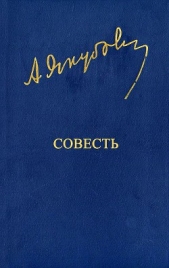Волоколамское шоссе

Волоколамское шоссе читать книгу онлайн
Роман «Волоколамское шоссе» является наиболее известным и значимым произведением замечательного русского писателя-фронтовика Александра Бека. Этой повестью о героических защитниках Москвы зачитывались в тылу, она была в полевых сумках бойцов на фронте. О книге во Франции писали как о шедевре, в Италии — как о самом выдающемся в русской литературе произведении о войне, а в Финляндии ее изучали в Военной академии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Закуривайте.
Разумеется, никто не отказался. Гаркуша сумел, как я заметил, ухватить сразу две папиросы. Затем он же, несмотря на ветер и дождь, ловко зажег спичку, поднес мне огоньку.
Я пошел в штаб. Там меня ждали созванные Рахимовым командиры и политруки. Я объяснил обстановку, объяснил задачу батальона.
— Ступайте, товарищи, к бойцам, — сказал я. — Растолкуйте: нам предстоит встречный бой, бой ночью, в темноте. Драться придется на близком расстоянии. Дело будет решать бросок гранаты, штык. Выступим через пятнадцать минут. Пообедаем на марше. Сделаем привал за чертой города. Вопросов нет? Идите.
Командиры ушли. Задержался лишь политрук Дордия. Не очень умело козырнув, он произнес:
— Разрешите, товарищ комбат, провести с ротой беседу.
— Что же ты народу скажешь?
— Думаю сказать, что подходит годовщина Октября… И вот… Как боролись подпольщики-большевики. А еще раньше революционеры-демократы… Чернышевский, например…
— Э, Дордия, заехал…
Дордия замялся, замолчал.
— Эка хватил!.. Зачем это солдату?
— Зачем? — переспросил Дордия. — А Ленин?
— Что Ленин?
— Он еще юношей полюбил Чернышевского. И любил всю жизнь. Чернышевский вывел образ революционера, для которого превыше всего долг…
Дордия оживился. Он попал на своего конька, заговорил на тему, что была ему близка.
— Некогда, Дордия, тебя слушать, — сказал я. — Иди в роту. И говори с бойцами проще.
Дордия покраснел. Краска залила даже шею.
— Иди! Напутственное слово я сам скажу бойцам.
Ничего не ответив, Дордия отдал честь, мешковато повернулся, ушел.
Вскоре бойцы были выстроены.
Медленно проезжая вдоль строя, я в полутьме различал знакомые лица.
Вот вторая рота, самая немногочисленная, потрепанная в славной контратаке под селом Новлянским. Вспомнился вскинутый в замахе огромный приклад ручного пулемета, что, как дубину, поднял над собой ринувшийся на врага Толстунов. Вспомнился его яростный зов: «Коммунары!»
Жаль, нет сейчас с нами Толстунова. Почти одновременно с ним поднялся в атаку Заев — они повели за собой роту. Вот он, Семен Заев, стоит на правом фланге, ссутулившийся, длинный, несуразный. На поясном ремне висит пистолет в кобуре, ручка другого пистолета — парабеллума, взятого в Новлянском у застреленного немца, — торчит из-за пазухи шинели. Шапка низко нахлобучена, ее уши наконец подвязаны.
А вот молодое лицо Ползунова. Не пряча от дождя шею в воротник, он смотрит доверчиво, серьезно. Сегодня наш генерал услышал от меня о нем. Услышал, как этот юноша солдат, сжав ручку противотанковой гранаты, следил ясными глазами за надвигавшимися черными коробками, с ходу стрелявшими в нас. И о тяжелораненом командире второй роты Севрюкове, о герое лейтенанте Донских, о струсившем Брудном, который потом стал бесстрашным. Вот он стоит со своими разведчиками, маленький смуглый Брудный. А вот пулеметная двуколка. Рядом пулеметный расчет: очкастый, слегка вытянувший ко мне длинную шею Мурин, саженный, возвышающийся над строем бывший грузчик Галлиулин и невысокий Блоха с белесыми, неразличимыми в сумерках бровями.
Что им сказать, моим солдатам, перед новым боем?
Остановив коня, я обратился к строю.
— Товарищи! Нам хотели дать отдохнуть, но не пришлось. Нельзя отдыхать, пока враг под Москвой. Мы идем в бой, идем вперед вопреки всем трудностям. В будущем станут допытываться: что же это за люди, которые боролись под Москвой с такой отвагой? Ответим им теперь: это советские люди, защищающие свою Родину!
Выдержав паузу, я приказал:
— Рахимов, ведите батальон.
Мы двинулись, выбрались из города.
Должен сознаться: я был недоволен своей речью. Язык произнес привычные, стертые слова: советские люди и так далее… А что это такое? Разве советский человек не такой же, как и все иные?
Я рассердился на себя. Зачем было пользоваться избитыми фразами, повторять наскучившие общие места? Неужели не мог найти собственных, выношенных, задушевных слов?
Кто-то ко мне подошел, зашагал рядом с Лысанкой. А, верзила Заев…
— Крепко сказали, товарищ комбат, — пробурчал он. — Здорово! До нутра дошло!
Заев никогда мне не льстил. Лесть была чужда его натуре. Что же дошло в моей речи до нутра? Какая же большая правда, тронувшая душу Заева, душу солдата, заключена в этих примелькавшихся словах: советские люди, советский человек?
Роты шагали по проселку, меся грязь. Позади, выделенные заревом, чернели купола церквей, башни колоколен. Вскоре их затянула мгла.
Усилился ветер. Но дождь стал утихать. Утихла и пальба. Не слышалось ни близко, ни вдали даже одиночных винтовочных выстрелов. Казалось, все замерло под Волоколамском.
Однако мы, идущие сейчас в неизвестность, в темноту, мы знаем: впереди линия обороны прорвана; сбегающиеся с севера к Волоколамску проселки, по одному из которых мы шагаем, уже не прикрыты нашими войсками; где-то во мгле перед нами противник.
Лысанка легко, точно не по вязкой грязи, шла подо мной сбоку колонны. Задумавшись, я грузно сидел в седле. И вдруг услышал позади топот коней. На миг топот смолк. Донесся торопливый вопрос:
— Где командир батальона?
И чей-то ответ:
— Впереди.
Минуту спустя меня нагнал майор из штаба дивизии в сопровождении двух бойцов.
— Фу-ты… Далеконько вы ушли, — обратился он ко мне. — Придется поворачивать. Привез вам, товарищ старший лейтенант, новый приказ. Командуйте батальону: стой!
— В чем дело! Почему?
Отъехав вместе со мной в сторону, майор объяснил: удалось наконец восстановить связь со штабом полка, на участке которого прорвались немцы. Мой батальон по приказу генерала поступает в оперативное подчинение командиру этого полка, подполковнику Хрымову. Мне приказано изменить маршрут батальона, идти не в Иванково, а в Тимково. Задача: занять Тимково, Тимковскую гору и держаться там.
Я спросил:
— А почему так, товарищ майор?
— Не знаю… Мое дело передать вам приказание.
— Вы сами говорили с Хрымовым?
— Нет. Говорил начальник штаба.
— Могли бы у него спросить.
Майор был задет.
— Не имею обыкновения задавать вопросы старшим начальникам.
Я не сдержался:
— Напрасно.
И, четко козырнув майору, крикнул:
— Синченко!..
— Я, товарищ комбат!
— Передай Рахимову: остановить батальон!
Обернувшись к майору, я вновь козырнул:
— До свидания, товарищ майор.
Он сухо ответил:
— До свидания… Поворачивайте скорее.
Приказав сделать привал, я вызвал к себе командиров.
Солдаты присели у дороги на мокрую, побитую заморозками траву. Жадно закурили, пряча огоньки самокруток. Заметно похолодало. Снова припустил мелкий, будто сеющийся сквозь сито, дождь. Эту изморось подхватывал, хлестал ею по шинелям, по плащ-палаткам, по ушанкам злой северный ветер.
Рахимов опять, как и на улице Волоколамска, навел луч карманного фонарика на прямоугольник карты, просвечивающий сквозь прозрачную крышку планшета. Я сообщил командирам о новом приказе: повернуть на Тимково, занять эту деревню, удерживать Тимковскую гору, господствующую, как показывала карта, над Волоколамском. Объяснив задачу, я приказал:
— Рахимов, дай Бозжанову коня. Бозжанов, гони к Филимонову, передай, чтобы возвращался.
Кажется, я уже говорил, что Бозжанов, как и многие мои сородичи-казахи, любил верховую езду. Не часто ему выпадал на войне случай вдеть ногу в стремя, натянуть повод. Поэтому даже теперь, в эту тревожную минуту, он доволен поручением. Его молодое, широкое, обрызганное дождем лицо серьезно. Но ответ весел, быстр:
— Слушаюсь, товарищ комбат!
Тон Бозжанова вызывает улыбки. В отсветах фонарика я вижу: улыбается Дордия, зябко втянувший под дождем голову в плечи, улыбается сдержанный Рахимов. Я велю: