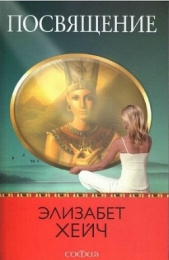Посвящение

Посвящение читать книгу онлайн
В книгу вошли пять повестей наиболее значительных представителей новой венгерской прозы — поколения, сделавшего своим творческим кредо предельную откровенность в разговоре о самых острых проблемах современности и истории, нравственности и любви.
В повестях «Библия» П. Надаша и «Фанчико и Пинта» П. Эстерхази сквозь призму детского восприятия раскрывается правда о периоде культа личности в Венгрии. В произведениях Й. Балажа («Захоронь») и С. Эрдёга («Упокоение Лазара») речь идет о людях «обыденной» судьбы, которые, сталкиваясь с несправедливостью, встают на защиту человеческого достоинства. «Посвящение» М. Ач — повесть-эссе о путешествии трех молодых венгров в Италию; конфликт повести построен по принципу классического «треугольника».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Я как раз любовался ею, — подхватывает тему Карой. — В путеводителе сказано, будто бы толкование картины двояко. По одной версии она олицетворяет собой Диалектику, но так же вероятно, что она символизирует Усердие, поскольку все эти картины, выполненные Веронезе, являются аллегориями добродетелей.
Амбруш задумчиво прогуливается по залу, изучая содержание остальных росписей.
— Она может символизировать все что угодно. Вот так же человек держит в руках нить своей собственной жизни. — Амбруш возвращается к Карою и Лауре и вновь принимается изучать женщину с паутиной. — И это якобы аллегория некой добродетели? Маловероятно! Вряд ли стали бы изображать добродетель столь уязвимой. Да и не верится, чтобы ее толковали столь двусмысленно.
— А быть может, это аллегория Терпения? — спрашивает Лаура. — Усердие проявляется в ином. Человек усердный трудится, копошится, хлопочет; если бы художник хотел изобразить Усердие, эта женщина была бы занята вязанием или вышивкой. Но ждать, когда паук соткет у тебя между пальцев свою паутину, — для этого необходимо терпение.
— Самоотверженность и терпение, — дополняет Карой.
Амбруш и интересом смотрит на Кароя и Лауру; ему подумалось, что если они все трое воспринимают эту картину как нечто близкое себе по сюжету, то, вероятно, их руки тоже соединяют какие-то нити, тонкие и рвущиеся, и они, все трое, каждый по-своему называют тенета, коими оплела их судьба, а может, и не судьба, а их собственная воля. И если Амбруш и прежде подозревал, что жизни Кароя и Лауры направляются ими по некоему преднамеренному пути, точно так же как и он сам руководствуется в жизни некими жесткими правилами, все же они живут в постоянном страхе, ощущая хрупкость сих соединительных нитей и иллюзорность своей размеренной и вроде бы лишенной видимых опасностей жизни. Они боятся, не зная, как долго просуществует эта связь, и не уверены, есть ли им вообще что оберегать и за что бороться, цела ли еще та паутина, что скрепляет их жизни. Амбруш сейчас впервые задумывается над этим, и никогда он не чувствовал так остро, что любит их и уважает, как самого себя.
— Забавно, что здесь, в Венеции, шагу нельзя ступить без того, чтобы не лицезреть очередную аллегорию добродетели, — вновь заговаривает Амбруш, и душевное волнение его прорывается лишь в более мягком звучании голоса. — Помните, я показывал вам на фасаде со стороны лагуны капители с изображением добродетелей и грехов. Кстати сказать, картина весьма поучительная: государство намного четче, нежели средневековая церковь, определяет, что оно считает грехом и каких добродетелей требует от своих сограждан. В соборе Св. Марка к услугам добродетели одни лишь нравоучительные надписи, да и те не слишком разборчивы. Зато во Дворце Дожей каждый грех и каждая добродетель показаны на редкость наглядно. Добродетели раздают деньги, оделяют хлебами, разжимают львиные челюсти, а грехи предаются чревоугодию, стриптизу или же, не мудрствуя лукаво, пронзают себя кинжалом. Впрочем, все вполне обоснованно. Государство может позволить себе большую точность в подобных вопросах, поскольку оно намного действеннее способно следить за соблюдением собственных запретов и приказов. В конце концов, всяк человек волен верить или не верить — это уж как бог на душу положит. Но хочет он того или не хочет, а если нарушает гражданские нормы, то должен считаться с тем, что кто-то уже строчит на него донос.
— Кошмар какой-то, по любому поводу у тебя совершенно немыслимые ассоциации! — смеется Лаура. — Нет чтобы ходить и любоваться красотой, так ты сперва рассказываешь нам о башне, полной казненных, а теперь рассуждения о добродетелях сводишь к доносительству. От твоих сопоставлений голова кругом идет.
— Вот уж неправда, — спокойно возражает Амбруш. — Много бы ты поняла из увиденного, если бы я не прибегал к немыслимым ассоциациям! Нельзя понять историю, лишь восторгаясь красивыми картинами или искусной резьбой. Все, что здесь представлено, не более чем побочный продукт. Видишь портрет, вон там, у двери? Ты даже не удостоила его вниманием, поскольку он не относится к числу известных шедевров. А между тем на портрете изображен дож Андреа Гритти, выполнявший свои полномочия в то время, когда у нас гремела битва при Мохаче. Стоит сопоставить два этих факта, и сразу смотришь на портрет другими глазами, верно?
— Да, ты прав, — подхватывает Карой. — Я этого Гритти и не заметил, а если бы даже и заметил, что толку, ведь я не историк. Но меня не оставляет мысль… все время, когда я смотрю на обилие позолоченной лепнины, вижу этот апофеоз самоутверждения, а точнее, самодовольства, увековеченный в декоре этих залов…
— Извини, что перебиваю, маленькое уточнение: в этих официальных административных помещениях, — вставляет замечание Амбруш.
— Да, действительно: в официальных помещениях. Словом, я не могу забыть, что в зале для голосования, знаете, в том, меньшем из двух, среди прочих славных деяний Венеции увековечена победа над венграми под Зарой в 1243 году. И в довершение всего запечатлел это событие Тинторетто. Затем по верху стен идет фриз, где изображен дож, правивший двумя столетиями раньше; его убили венгры, и тоже под Зарой. Странное чувство было созерцать эти картины.
— О слава наша прежняя, где затерялась ты в потемках ночи! — насмешливо скандирует Амбруш стих из школьной хрестоматии.
— Нельзя издеваться над высоким патриотизмом. — Карой чувствует себя уязвленным.
— Отчего же? В тебе кипит оскорбленная гордость из-за поражения под Зарой и ты, как и положено невежественному технарю, даже не подозреваешь, что в той войне победил Луи Великий. Заключенный тогда мир заставил Венецию отказаться от притязаний на Далмацию, а позднее Торинский мир гарантировал всем странам свободную торговлю на Адриатике. Это был тяжелый удар для Венеции, ведь до тех пор ее данником считался любой, кому случалось пересекать Адриатику: каждое судно, замеченное в заливе, обязано было разгружать свои товары в Венеции. После войны положение изменилось: теперь Венеция платила налог венгерскому королю за использование далматинских портов. Но венецианцы из всей этой истории увековечили лишь один эпизод: свою победу под Зарой. И тебя же еще распирает от национальной гордости. — Амбруш пренебрежительно машет рукой.
— Значит, Венеция была данником Венгрии, — восторженно хохочет Лаура и загоревшимся взглядом обводит зал.
— В те годы, когда в Венгрии правил сильный король. Королю Матяшу, например, шла немалая мзда за поддержку Венеции в войне с турками.
— Господи, сколько же ты всего нахватался, Амбруш! Чувствуется основательная подготовка, — одобрительно замечает Карой. — Однако не думай, будто тебе удалось подавить меня своей эрудицией. Разумеется, я не знал всех этих деталей, какие ты нам сообщил. Но, даже будучи «технарем», я додумался до той же сути. Величием Венеции я мерил давнее величие Венгрии. Ведь с историей нашей страны, в сущности, лучше всего знакомиться по хроникам других стран.
— Видишь ли, — начинает Амбруш с многозначительной и насмешливой улыбкой, какою предваряет все свои серьезные заявления, — ты волен толковать мои слова как вздумается. Правда и то, что нашу славу былых времен легче всего прочувствовать здесь, знакомясь с историей Венеции. Но я ощущаю позор, в какой был ввергнут этот город после утраты столь значительной мощи на суше и на море. Хотя Венеция как суверенное государство на двести семьдесят лет пережила Мохач. Однако последняя сотня лет, до ее покорения Наполеоном, далась Республике нелегко. Судите сами: на потолке в зале Большого совета запечатлен апофеоз Венеции — город в образе прекрасной женщины, — а в скором времени после создания этого потолка Венеция превратилась в модный дорогой курорт Центральной Европы. Знаете, как обращался султан в посланиях к дожу? «О, гордость эмиров Иисусовых, судья богоизбранных, зиждитель здания западной империи франков…» — и так далее, и так далее. Запад же именовал Венецию вратами Востока и оплотом Запада. А затем она как-то вдруг перестала быть «вратами» и «оплотом» и превратилась в город знаменитых карнавалов. Инквизиция еще какое-то время продолжала стращать наказанием отпрысков именитых патрицианских родов, если легкомысленные юнцы дерзали показаться на улице в красном испанском плаще «табарро» вместо предписанной традициями тоги, но угроза наказания, конечно же, так и оставалась угрозой. Она выплачивала весьма солидное месячное содержание своим агентам, то бишь доносчикам, которые информировали сие почтенное учреждение о притонах картежников и о благородных дамах, впадавших в блуд. Но к тому времени пороки — под сенью расписанных маслом, выложенных в мозаике, высеченных в мраморе добродетелей — стали настолько повсеместным явлением, что Венеция прослыла вселенской блудницей.