Молчащий
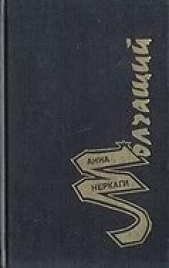
Молчащий читать книгу онлайн
В книгу известной ненецкой писательницы Анны Неркаги вошли уже знакомые русскому и зарубежному читателю повести "Анико из рода Ного" и "Илир". Впервые полностью публикуются "Белый ягель" и "Молчащий", отрывки которого публиковались в различных изданиях под именем "Скопище". По итогам 1996 литературного года книга "Молчащий" удостоена премии им. Николая Мартемьяновича Чукмалдина, которую ежегодно издательство "СофтДизайн" присуждает лучшему своему автору.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Скопиец Улыб — страшен. Ложь,.. Ложь... Ложь... В мире должно быть много лжи, чтобы скопиец Улыб был доволен и сыт. Ложь должна быть во всём: в ребёнке, в любви, на земле, на небе. Ложь в радости, море лжи в любви, миллион лживых смертей. Ложь должна родиться. Ложь надо воспитать, взрастить, а чтоб она была действенна, озлобить. Ложью должен быть опутан каждый. Травы должны иметь ложный блеск и силу, цветы — ложные лепестки и запах. Жизнь должна быть покрыта мраком лжи, чтоб задохнулась.
Мало того, в эту душу надо положить камень, взращённый ложью, и тогда слова человека станут змеями. И люди сами будут жалить друг друга. Никаких усилий. Ложь будет рождать ложь. Да здравствует ложь! Вечная, непоколебимая, непобедимая!
В жилище червей, в Скопище, в этих некогда купленных во благо гробах произошло... невиданное.
Салла, любимый, воплощавший в себе силу Бога, заключил союз с Улыбом. Салла, с его умением залезать в человеческие души, согласился питаться кровью, и утро перестало наступать в скопийских душах.
Умерло утро в Скопище. Утро с его Божьей свежестью, радостью жизни и мысли. Умерло чудесное дрожание Души от восторга перед солнечным лучом. В душах скопийцев настала вечная ночь, с её душными сумерками, с близостью смерти. Страшно, когда не наступает утро, в бесконечной ночи не наступает день.
одну из светлых северных ночей с гор, по направлению к Скопищу, как бы намеренно выбирая места потемней и дичей, двигалось непонятное существо.
Двигалось оно странно. На ровном месте быстро и проворно поднимало своё тело и походило на шагающего человека. Но на пологих склонах вдруг падало вниз и так же проворно продолжало путь на четвереньках, смахивая на огромное животное, вспугнутое снизу внезапным звуком. Особенно крутые склоны существо брало одним махом, напрягаясь всем телом, и тогда, задумываясь о его происхождении, можно было поклясться, что оно было зачато в любовной игре двух диких зверей. Но стоило ему подняться, как тут же вспыхивала обыкновенная мысль: родители его были человеческие самец и самка.
Но третья мысль, невольно приходящая на ум дри взгляде на странное существо, казалась всего верней: это плод безумства. Матерью его была самка человека, отец же зверь. Сильный, изнемогший, ослепший от ярой страсти. И ни этот зверь, ни женщина в диком безумстве не мыслили о страшном последствии случившегося.
Но судьба существа была, видимо, ещё загадочней и жутче, чем факт зачатия. Его не растили ни мать-человек, ни отец-зверь. Его поднял к жизни некто третий, неизвестный, и поставил на нём ужасный знак своих трудов, который одинаково можно назвать печатью жестокости, сарказма, смерти и в просторечии называемый уродством.
Зверь-урод в нём выглядел примерно так: у существа чрезмерно развита верхняя часть тела, грудь, раздвинутая как бы на две части, мощна. Крепкие руки-лапы длинней обычных, а кисти рук с такими сильными пальцами, что хватка их может быть только смертельной. На ногах сильно развиты колени. Они резко выдвигаются вперёд, как наросты на деревьях. От повадок своих зверь-отец передал ему настороженность, когда любой малый звук вызывает одновременно и страх, и готовность напасть самому. Собранность во всём теле — ведь всё должно подчиниться одной мысли, одному порыву — прыжку.
И неожиданное умаление: поджатый меж ног хвост, неровная, как бы спотыкающаяся поступь, униженный в пол-рта полуоскал-полуулыбка.
Мать-женщина передала своему сыну мягкую беспомощность, вообще заключённую в человеческой сути. Человек-урод имел небольшую голову, совсем не подчёркнутую шеей, которой не было начисто. И особенно заметно было, что слабо, почти совсем не развит у него таз, одним словом та часть тела, которую можно назвать средней. Где-то чуть выше таза, по линии талии человек-урод мог оборваться, если его сильно потянуть в обе стороны.
Но то, что дали ему отец и мать, было по сравнению с тем, чем наградил Некто, его вырастивший, ничтожным блефом. Так, когда мастер приступает к своему замыслу, первые его мысли, движения души и рук робки и неверны, как руки неопытного любовника. Сила удара, мысли, мазка, всегда неожиданна для самого мастера и в силу этого не видна простому глазу.
Тот, кто вырастил плод Безумства, и был ему отцом и матерью по-настоящему, распорядился по-своему. Опытный глаз на совершенно чистом белом снегу по следам хищника может понять, как, с какой мыслью выслеживал тот добычу, и если драма произошла, следы расскажут, как именно.
Теперь, когда дневной свет приглушён наступившей ночью, усевшийся на большом камне полузверь-получело-век был виден очень хорошо...
Ложь, что лицо человека не служит отражением его души. Лицо, как чаша цветка. Как цветку питается, так и цветётся.
Полузверь-получеловек, поднявший короткую голову к ночному небу, был красив совершенно. Насколько незатейливо уродливо тело его, настолько же прекрасно лицо. Чёрные большие глаза — два озера, застывшие в ночном величии покоя и согласия.
Красивые, твёрдо очерченные губы — лепестки дневного цветка, нежно-розового, Как заря.
Если бы его растила мать-человек, получила бы она сына-кормильца, добывающего кусок не руками и ногами, а совсем иным орудием. Изумительный, совершенный по форме лоб, в меру широкий, в меру высокий, с чуть заметным изящным возвышением посередине, говорил о том, что он мог бы не шевелить ни рукой, ни ногой, а всё вокруг него двигалось бы по велению его мысли. Одной-единствен-ной мысли. Мысли-молнии, мысли-огня, мысли-тайны.
Рубец топора на золотистой коре дерева вызывает содрогание. Лицо существа, высоко поднятое к небу и не опущенное вниз, вызывало ужас. Оно не было лицом человека и не было мордой зверя. На нём расписался Некто, имя которого неизвестно. Бесчисленные шрамы от острых предметов вились на щеках, лбу, губах и веках, как дороги на теле земли. Многие из них зарубцевались и походили на заросшие овраги, иные ещё кровоточили и из них временами стекали юркие капли крови. Третьи гноились...
Но даже самое изуродованное лицо вызывает жалость. Лицо полузверя-получеловека отвращало и ужасало. Его хотелось обойти взглядом, как случайно попавшую под ноги гадость. Его хотелось топтать, как ядовитую змею, которая, если не будет убита тобой, ужалит обязательно тебя. Его хотелось накрыть, чтобы не сойти с ума. И, наконец, в беспомощности перед ним, закрыть глаза, чтоб не задохнуться в тоске.
Но самое жуткое, что приходило к закрывшему глаза, это мысль о собственном лице. И дрожащие суетливые пальцы ощупывают щёки, лоб в поисках шрамов и рубцов, но пальцы чисты, на них нет крови и гноя. Но разве это говорит о том, что лицо прекрасно? Кто видел сам себя? Может, Некто расписался и на наших лицах? И наши глаза источают ад. А оскал гиен, шакалов и волков стал нашим оскалом? Убежищем тоски и мрака, может, стали наши черты? Кто расскажет нам наши лица? Кто станет их судьёй?
Как мы стали судить лицо несчастного полузверя-получе-ловека?
Сидящий на камне будто Уснул. Ужасная голова уютно устроилась на большой груди. Плечи еле покрыты грубым тряпьём. Волосатые ноги не обуты совсем. На могучих плечах крохотная котомка, перевязанная грязной бечёвкой.
Неожиданно сзади в кустах раздался сильный шорох. Два огромных лемминга, волоча по земле раздутые животы, пронеслись один за другим, как выпущенные подряд пули. Спавший мгновенно вскочил...
...Охотник не охотник, если хоть раз в жизни не загонял хищника под дерево, камень: в место его смерти. И животное понимало это. И самое жуткое тогда — морда обречённого, затравленно дрожит каждая шерстинка, ноздри сжаты, в глазах тоска, угроза, надежда. С глухим рычанием смотрит он на острие ножа или дуло ружья. И кто знает, кто уверен в том, что бедное животное не выбирает в этот момент что-то среднее между подкупающей улыбкой и ответной угрозой.
Заполошный бег двух леммингов вызвал на лице вскочившего именно такую затравленность. Он не скоро успокоился, всё продолжая оглядываться туда, куда скрылись лемминги. Особенно корёжило ему спину, и он часто оглядывался назад, сжимая и снова разводя лопатки.


























