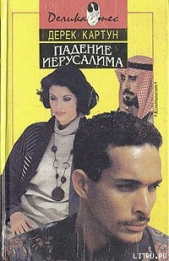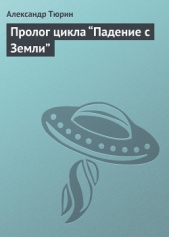Падение Ханабада. Гу-га. Литературные сюжеты.

Падение Ханабада. Гу-га. Литературные сюжеты. читать книгу онлайн
В повести «Гу-га» и романе «Падение Ханабада» общий главный герой — Борис Тираспольский. Вынесший из чистилища штрафного батальона лучшие качества души бесстрашие и чувство товарищества, в послевоенные годы, годы разгула культа личности, он по тем же законам живет и трудится на посту журналиста в одной из среднеазиатских республик.
В составе книги также интересные жизненные наблюдения, объединенные заголовком «Литературные сюжеты».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поднимаю глаза. Это Надька. Носик ее чуть вздернут, светлый локон падает на лоб, в глазах какой-то вызов и обида. Перебираю карточки и отвечаю тем, что написано от руки — сирень: «Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь».
Продолжаем играть, громко смеемся, читаем вслух наиболее томные выражения. Это и в шутку, и почти всерьез. У всех, у нас и у девочек, разгорелись глаза, временами чьё-то лицо заливается вдруг краской.
Я отстраняюсь на мгновение и снова замечаю букву «ять» в печатном тексте. И сразу почему-то встает все связанное с этим: выложенные из желтого кирпича и по-строгому красивые станции, водокачки, пакгаузы каждые двадцать-тридцать верст, без воды вокруг, под диким, неистовым солнцем. Дома тут в городках из такого же кирпича, с ровно размеченными улицами, арыки в желтом, аккуратном камне вдоль этих улиц, и ни один кирпичик не треснул, не выкрошился за пятьдесят, за семьдесят лет. И дорога, которую два батальона солдат без шума и суеты построили на тысячи верст через пустыню вместе с самым длинным в то время железнодорожным мостом через древнюю буйную реку. Там старые шпалы еще целые на этой дороге. И от нее другие дороги с такими же станциями и мостами чуть ли не в самую Индию. Что-то еще незримое увиделось вдруг мне сейчас в этом маленьком доме посреди пустынь и садов, где мы играем в смешную, лукавую, чистую игру. Я читал, как играли в нее в прошлом веке, и тогда уже повеяло на меня устойчивым душевным теплом… Родился я в студенческом общежитии института народного образования, как называли тогда университет, в интернациональной семье, и не знал всего этого. Слово флирт употреблялось родителями только в отрицательном смысле. Впрочем, как и все остальное, включая дома и пакгаузы из старого желтого кирпича. Совсем маленьким видел я, какими острыми брызгами разлетался он, когда рвали собор. Наше окно смотрело прямо на Греческую, и я каждый день видел его высокие белые стены в проеме поднимающейся вверх улицы, когда мать запирала меня, уходя на работу. Однажды утром его не стало, и я ходил смотреть, как заметали с мостовой эти желтые осколки…
Девочки с чувством поют:
Это было, кажется, в июле,
Вы из рук кормили голубей,
А теперь, в артиллерийском, гуле,
Вы огонь ведете батарей…
Мы переглядываемся. Почему-то не очень ложится к нам в душу эта песня. Хоть слова в ней и звучные.
Где же шелк и прелесть ваших бантов,
Алый цвет и нежный взгляд очей,
Я в шинели, в чине лейтенанта…
Особенно не то что-то в припеве.
Я хочу, чтоб вы к своей шинели
Прикололи розы лепестки!
Ведем всякие разговоры о героизме и любви. Тут перед нами стояла Тамбовская школа пилотов. Они летали на «Илах». Так вот, один курсант из них влюбился, а она вышла замуж за другого. В день свадьбы он разогнал шеститонную машину и на бреющем влетел к ней прямо в дом. Даже и сейчас там стоят обгоревшие руины, и на кладбище, где похоронили их вместе, воткнут пропеллер. Не то здесь, не то в Красноармейске, не то еще где-то это произошло. Обычный авиационный треп, но мы киваем головами, соглашаясь с девочками, что это настоящая любовь. Лица у них задумчивы и прекрасны.
Потом гурьбой провожаем девочек. Ирка, как хозяйка, идет с нами. Сначала доводим до дома подругу, которая живет дальше всех, затем, на обратном пути, Надьку, и последней — Ирку. Я задерживаюсь с ней. Валька и Со стоят, ждут меня, зовут. Потом они уходят.
Мы целуемся с Иркой, долго и страстно. Ирка смуглая, у нее черные как смоль кудрявые волосы и такие же черные большие глаза. Она наполовину татарка. И имя у нее немного другое, редкое, которое ей очень идет. Я привычно обнимаю ее, но она уверенно ставит предел для моих действий. Только губы ее дразнят меня и глаза искрятся…
Иду в эскадрилью напрямик, перескакивая через арыки, и думаю о том, что говорил мне сегодня Гришка. Слишком уж толстые ноги у этой Тамары Николаевны…
Я лезу вторым. Впереди меня ползет Даньковец, сзади Иванов. Проползаем два-три шага и опять надолго останавливаемся. Даньковец по сантиметру продвигает вперед руки, пробует землю. Хоть говорил од что давно знает этот путь, а все же проверяет каждый шаг. Я не вижу этого, только слышу осторожные движения его пальцев. Потом сапог его отодвигается от моего лица, и я подтягиваюсь следом, стараясь не задеть рукой что-нибудь в стороне. Когда виснет ракета, мы лежим, как кучи торфа вокруг, такие же темные, мокрые и неподвижные…
Два или три часа уже ползем мы так. Где-то сзади остались колья с кусками оборванной проволоки, наверно, от какой-то прежней линии обороны, потом пошли старые обрушенные окопы. Знакомое нам дерево с вывороченным корнем теперь справа от нас. А мы ползем дальше. Что-то долго на этот раз возится Даньковец. Слышу, как глубоко он вздыхает и, подняв над головой, показывает мне во тьме что-то круглое, вроде большой катушки ниток. Только потом догадываюсь, что это мина. И опять мы ползем…
Кажется, теперь мы у места. Совсем близко темный неровный прямоугольник. Это штабель оплывшего торфа, который виден нам днем. Даньковец машет рукой. Я двигаюсь к нему, замираю рядом. Сзади подползает Иванов. Рука моя проваливается в пустоту. Это узкий ровный окоп — ход сообщения. Он идет от вывороченного дерева туда, к чернеющему над болотом лесному косогору.
Даньковец делает прутиком метку и неслышно сползает в чужой окоп. Мы за ним. Идем в сторону дерева. Хороший, удобный ход: лишь голову пригни, и не видно. Тут место повыше, чем у нас, и вода не выступает из земли. Шагов через двадцать окоп немного расширяется, чтобы можно было разойтись встречным. Мы ложимся тут на краю и ждем. Час, другой, третий, пока не теряется ощущение времени…
Все происходит неожиданно, но почти так, как говорит Даньковец. Двое их идут от косогора небыстрым шагом. Луна где-то спрятана за плотными тучами, но их видно еще издали: две приподнятые над окопом круглые головы. И шаги их мы хорошо слышим. Все ближе они, даже тут в ногу идут. Одного мы пропускаем, и в то же мгновение Даньковец скатывается сверху на него. Одновременно я захватываю рукой под каску другого. И как-то теряюсь, не готовый к этому. Я ожидал борьбы, а немец нисколько не сопротивляется, даже руки не поднимает. Вижу его выпученные глаза и давлю все сильнее. С той стороны окопа его держит Иванов, не давая и шевельнуться.
Даньковец уже возле нас, дергает мою руку, но она словно окостенела. Еле-еле сам отвожу ее в сторону, и немец садится на дно окопа. Голова его повисает. Даньковец заглядывает ему в лицо, слушает дыхание. Потом раскрывает ему рот и впихивает туда тряпку. Глаза у немца по-прежнему выпучены, но голова уже держится прямо. Другой лежит в окопе неподвижно, головой к нам. Даньковец держит в руке финку. Она у него темная по лезвию. Он втыкает ее два раза в землю, обтирает об штаны, и лезвие светлеет.
Я сижу возле живого немца. Иванов стаскивает с убитого автомат, Даньковец обшаривает его карманы, ищет документы. Тут что-то звякает у нас. Это первый звук за полторы минуты, пока все происходило. Мы сидим, прижавшись к стенкам окопа. Почти рядом слышится знакомый мне голос. И даже имя то же повторяет: Франц… дас бист ду, Франц?
Мы молчим. Опять что-то говорит этот голос, и тревога слышится в нем. Даньковец, чуть повозившись, привстает и бросает к вывернутому дереву гранату с длинной ручкой, потом другую.
Долго, долго все тихо — это так кажется мне. Желтым светом вспыхивают в мокром воздухе разрывы, и их перекрывает человеческий вопль. Он обрывается, как будто уходит в воду. От косогора с журчаньем убегает в небо ракета. Белый нежный свет ее отражается в оскаленных зубах мертвого немца, и я зачем-то запоминаю его лицо.