Заххок (журнальный вариант)
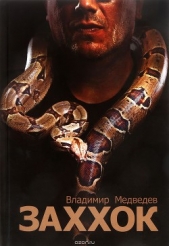
Заххок (журнальный вариант) читать книгу онлайн
В романе Владимира Медведева "Заххок" оживает экзотический и страшный мир Центральной Азии. Место действия - Таджикистан, время - гражданская война начала 1990-х. В центре романа судьба русской семьи, поневоле оставшейся в горах Памира и попавшей в руки к новым хозяевам страны. Автор - тоже выходец из Таджикистана. После крушения СССР русские люди ушли с имперских окраин, как когда-то уходили из колоний римляне, испанцы, англичане, французы, но унесли этот мир на подошвах своих башмаков. Рожденный из оставшейся на них пыли, "Заххок" свидетельствует, что исчезнувшая империя продолжает жить в русском слове.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Говори, куда заносить, — распорядился Даврон.
— В мехмонхону. Прямо через дом, потом...
— Знаю, — оборвал меня Даврон.
Мы прошли через дом, в переднем дворе свернули налево к мехмонхоне. Мухиддин, сынишка Бахшанды, забежал вперед и распахнул дверь. Мы, не снимая обуви, вошли в гостевую, поставили носилки посреди комнаты.
— Зови старуху. В темпе, — приказал Даврон.
Я не понял.
— В доме нет старых женщин.
— Да не в доме, — нетерпеливо сказал Даврон. — В кишлаке. Кто тут у вас знахарка? Знаменитая.
Я понял, о ком речь.
— Хатти-момо.
— Факт. Вот ее и зови. Побыстрей.
Я велел Мухиддину, сынишке Бахшанды, который стоял на пороге и сгорал от любопытства:
— Беги к старой Хатти-момо. Скажи, Джоруб просит прийти как можно скорей.
Мухиддин убежал. Даврон взглянул на часы:
— Далеко старуха живет?
— Не очень. На нашей стороне. Старушка древняя, бегать уже не в силах.
Не промолвив ни слова, он шагнул к выходу.
— Кто это? Кого вы привезли? — крикнул я вдогонку.
— Зарину, — ответил Даврон, не оборачиваясь. — Облила себя керосином и подожгла.
Не спрашивайте, что я почувствовал. Я образованный человек, знаю, горе — болезнь души. Но лучше сорваться в пропасть, кости переломать, лучше чумой заразиться, проказой, лучше от тифа умирать, чем страдать от этой болезни. Я, словно старик, дрожащую руку протянул, хотел марлевое покрывало с лица Зарины откинуть — силы не хватило. Стоял, от боли стонал...
Дильбар потихоньку вошла, остановилась рядом.
— Не убивайтесь, Бог захочет, все обойдется. Сейчас Хатти-момо придет, посмотрит, скажет... Может быть, и не очень опасно, может, вылечит.
Ответить не смог — спазм сдавил горло, дыхания недоставало. Не знаю, сколько времени прошло. Прибежала Вера с верхнего поля. Ворвалась в мехмонхону.
— Это не она! Какая-то ошибка... Не может быть, чтоб она!
Боязливо откинула марлю, увидела лицо, замерла. Бессильно опустилась у изголовья и окаменела. Я вышел, не смог вынести тяжести ее скорби.
Во дворе толпились, перешептываясь, соседки. Наконец привели Хатти-момо. Две женщины поддерживали ее под руки, двигалась она медленно и осторожно, но держалась очень прямо. Белоснежное платье до пят и головной платок обветшали от бесчисленных стирок, были сшиты, казалось, из хирургической марли. Я словно малый ребенок на нее смотрел, с детской надеждой. Непонятную силу чувствовал в ветхой старушке, силу выветренного камня. Тысячелетиями разрушали его высокогорное солнце с ледяным ветром, одолели, вылущили все бренное и непрочное, с несокрушимой основой не совладали.
Старушку ввели в мехмонхону, я вошел следом. Хатти-момо присела в головах носилок по другую сторону от Веры, откинула широкий белый рукав, хрупкими темными пальчиками прикоснулась к лицу Зарины, сказала:
— Пусть все выйдут.
Я, преодолев оцепенение, сказал:
— Пойдем, Вера. Хатти-момо хочет, чтобы мы ушли.
Она проговорила глухо, безжизненно:
— Я мать. Я должна остаться.
Я перевел.
— Мать пусть тоже выйдет, — сказала Хатти-момо.
Я бережно обнял Веру за плечи, поднял и повел. Калека вел калеку, больной вел больную... Потянулось время, мы ждали во дворе, не отводя глаз от двери мехмонхоны. Соседки тихо переговаривались:
— Скажет: «Буду лечить», тогда есть надежда. Молча уйдет — значит, помочь нельзя.
— Эх, сестра, один Бог знает. Говорят же: некто всю ночь у постели больного проплакал, наутро сам умер, больной жив остался...
Дверь наконец открылась. Вера словно очнулась, кинулась к Хатти-момо:
— Что?!
— Буду лечить, — сказала знахарка.
Она подозвала помощницу, перечислила, какие из трав и снадобий следует принести, и вновь уединилась с Зариной. Соседки постепенно разошлись. Хатти-момо несколько раз выглядывала из мехмонхоны, ставшей больничной палатой, и требовала то горячей воды, то старый железный серп — непременно старый, сточенный почти до обушка, то свежего коровьего навоза... Поздно вечером она приказала не входить к Зарине, чтоб не тревожить, сказала, что придет утром, и удалилась, опираясь на помощницу.
Вера к этому времени нервно расхаживала по двору, беседуя сама с собой:
— Нет, я не понимаю, почему он сюда привез, почему не в город?! Ну хотя бы в Калаи-Хумб. Там все же врачи. Наверное, военный госпиталь есть. А эта старуха... Она же едва дышит. Ее саму надо реанимировать, а туда же — лечить... И чем? О, господи, навозом!
Неожиданно Бахшанда сказала с непривычной мягкостью:
— Сердце понапрасну не надрывай, Вера-джон. Она хорошо лечит. К ней много людей даже из Калаи-Хумба, из Дангары, отовсюду приезжают. Тамошние врачи не могут, а Хатти-момо умеет. И Зарину вылечит...
Вера вдруг взорвалась.
— Не притворяйся, что за нее волнуешься! — крикнула она яростно. — Я знаю, ты Зарину терпеть не можешь. Ты ее ненавидишь. И это ты, ты сломала ей жизнь. Все беды начались с твоей идиотской затеи с замужеством...
Неукротимая Бахшанда против обыкновения промолчала. Должно быть, понимала, какими тягостными для близкихпутями изливается порой горе. Меня тоже переполняло желание проклинать Бога, судьбу и обвинять всех домашних, но я укротил себя и терпеливо переносил страдание, ибо терпение — тусклый факел, который освещает наши жизни.
Вера продолжала бушевать:
— Не понимаю, не представляю, как можно жить так, как вы живете. Вы своих девушек замуж выдаете — точно коров на случку гоните... И ты тоже, — она с ненавистью обернулась ко мне, — и ты тоже... Ветеринар! — последнее слово она выкрикнула с презрением, как оскорбление.
Я принял укор с благодарностью — он был сродни тем жгучим лекарственным средствам, что оказывают, говоря языком медицины, отвлекающее воздействие и приглушают главную боль.
Вера прошагала к мехмонхоне, открыла дверь и скрылась внутри. Я войти не решился, хотя не видел разумного смысла в запрете Хатти-момо. В кишлаке говорят, она лечит не столько зельями, сколько джоду, колдовством, магией. В магию я, разумеется, не верю, но все-таки не хотел рисковать...
Ночь промаялся, рано утром решил забыться в тяжелой работе. Взял кетмень, лопату, поднялся к верхнему полю, которое Вера с детьми полностью расчистили от камней. Остался только вросший в землю обломок величиной с откормленного барана. Одному человеку с таким не справиться, разумнее было оставить лежать посредине поля. Так обычно и поступают. Я же взялся за бессмысленную работу — начал окапывать валун, чтобы впоследствие выкатить его из ямы, используя жерди как рычаги. Через какое-то время пришла Дильбар. Остановилась и молча наблюдала за моими усилиями.
— Что? — спросил я, не оборачиваясь.
— Наши мужики вернулись с пастбища, — сказала Дильбар. — Сказали, что Зухуршо мертв. Они, наверное, его убили. Народ возле мечети собирается. Наверное, вам тоже нужно пойти...
Я продолжал копать. Она постояла немного, затем ушла. С удивительным равнодушием выслушал я сообщение о смерти Зухуршо, однако весть, подобно зерну, постепенно набухала в темных глубинах скорби, а затем внезапно проросла вспышкой мстительной радости. Одновременно пробудилось и любопытство. Меня охватило нетерпение, бросив лопату, я зашагал вниз.
Вошел на задний двор, чтобы смыть пот и грязь, и вдруг услышал тихий шепот:
— Джоруб, эй, Джоруб...
Ворота коровника были приоткрыты, я распахнул их и увидел Шокира. От неожиданности я расхохотался. Слышал словно со стороны свой злой смех, звучащий как рыдания. Не в силах сдержаться, выплескивал боль, тревогу, напряжение. Не понимал, смеюсь или плачу.
Внезапно умолк. Холодная ярость захлестнула сердце. Шагнул к нему, занес кулак. Шокир съежился. Но рука не подчинилась, дрожала от напряжения, застыла, не ударила. Ненависть во мне кипела, тело не повиновалось.
— Друг, не бей, — пролепетал Шокир. — Помоги...
Словно чары с меня снял этими словами. Рука опустилась, а разум одобрил, что не ударила слабого.

![Путешествие души [Журнальный вариант]](/uploads/posts/books/188315/188315.jpg)
![Охота Сорни-Най [журнальный вариант]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)




















