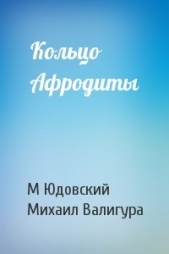Бунт афродиты. nunquam
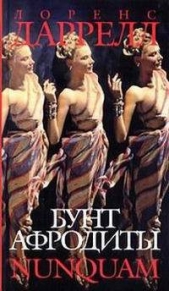
Бунт афродиты. nunquam читать книгу онлайн
Дипломат, педагог, британский пресс-атташе и шпион в Александрии Египетской, друг и соратник Генри Миллера, старший брат писателя-анималиста Джеральда Даррелла, Лоренс Даррелл (1912–1990) прославился на весь мир после выхода «Александрийского квартета» (1957–1960), расколовшего литературных критиков на два конфликтующих лагеря: одни прочили автору славу нового Пруста, другие видели в нём ловкого литературного шарлатана. Время расставило всё на свои места, закрепив за Лоренсом Дарреллом славу одного из крупнейших британских писателей XX века и тончайшего стилиста, модерниста и постмодерниста в одном лице.
Впервые на русском языке — второй роман дилогии «Бунт Афродиты», переходного звена от «Александрийского квартета» к «Авиньонскому квинтету», своего рода «Секретные материалы» для интеллектуалов, полные восточной (и не только) экзотики, мотивов зеркальности и двойничества, любовного наваждения и всепоглощающей страсти, гротескных персонажей и неподражаемых даррелловских афоризмов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Уже всё? Значит, я опять тут?
Обратив свой вопрос к Маршану, она высвободила изящную ручку с длинными пальчиками, коснулась, нежно пожала мою руку и, давая понять, что узнала меня, прошептала по-гречески:
— Привет, Феликс.
Маршан неуклюже приседал и быстрыми движениями наклонял голову, по-своему представляя утвердительные китайские жесты, и жал мне руки, поздравляя себя с победой — живой, дышащей, научной победой с фарфорово-голубыми глазами и алым, если приглядеться, хищным ртом.
— Ну вот и всё, — произнёс он. — Это успех; но вы должны немножко отдохнуть, и даже не немножко.
Она зевнула с естественностью кошки и прошептала:
— Феликс, я прекрасно себя чувствую. Можно мне в туалет, доктор?
До сих пор она не замечала бледную Хенникер, но теперь, отвернув простыню, словно собираясь подняться, увидела её и удивлённо, по-птичьи вскрикнула:
— Это вы — вот не ожидала!
Странным образом, но их объятие свело на нет волнение и страх пожилой женщины. Наверно, ощущение правдоподобия, реальности плоти и крови, жестов освободило Хенникер от нежелательных, но естественных эмоций — не знаю. Но в одну секунду она перестала бояться.
— Я провожу вас, — с этими словами она отправилась вместе с Иолантой в ванную комнату, где долго гладила её по голове, и от удовольствия Иоланта автоматически затрепетала.
— Правда, всё кончилось? — спросила она Хенникер. — Вы точно знаете?
Торжественно поклявшись в этом, Хенникер проводила Иоланту обратно, взбила подушки и пригладила простыню жёсткой старческой ладонью. Кстати, Иоланта больше не дрожала. Маршан, который только и делал, что крутил стетоскоп в руке, в роли доктора выступал на редкость скверно.
— Что ж, — проговорил он. — Это большой успех.
Иоланта обратила на него свою улыбку и выразила благодарность, взяв его руку в свои.
— Большое спасибо! — торжественно сказала она. — Я уже было совсем попрощалась с жизнью.
Мы не могли отвести от неё глаз, поражённые тем, что сумели сотворить, и уже усомнившиеся в том, что она будет продолжать грандиозный спектакль дублёрши, если так быстро выучила трудную роль. Мне было легко понять неловкость Маршана, его желание поскорее сбежать. Это было похоже на первые уколы любви — когда, как ни странно, хочется быть подальше, наедине с самим собой, чтобы подумать о своей любви. Вот только его любовь была научной — единственная разница. Кукла работала! Иоланта сонно проговорила:
— Когда просыпаешься после анестезии, то как будто с лёгким ударом оказываешься посреди своего сознания — это похоже на прелестные полёты во сне, которые бывают в детстве.
Маршан переступал с ноги на ногу. Наконец он, пообещав заглянуть утром, ушёл.
— Хенни, — позвала Ио, откровенно зевая, — можно мне немножко поесть? Совсем немножко, скажем, варёное яичко?
— Конечно, дорогая.
Хенникер отправилась на кухню, оставив нас весело разглядывать друг друга, да, весело и нежно.
— Мне надо посмотреть, — наконец сказала она, — что они сделали с моими грудями — ведь как раз это всерьёз беспокоило меня и чуть не отправило на тот свет, как мне кажется.
Лёгким быстрым движением она соскочила с кровати и повернулась ко мне спиной, чтобы я помог ей снять ночную рубашку. Голая, она прошла через всю комнату к большому зеркалу. У неё вырвался негромкий возглас облегчения, когда она увидала прелестные новенькие груди, которыми её снабдили доктора, когда она взяла свои груди в ладони, по-попугаичьи склонив голову набок. Потом она подалась вперёд и внимательно заглянула в свои глаза, словно оценивая себя; после этого, вздохнув, повернулась ко мне, похожая на обнажённую зарю, обняла меня и собралась крепко поцеловать в губы. Это был известный мне любящий поцелуй Ио, невыносимо реальный, однако совершенно лишённый эротики. Это был поцелуй сестры и брата, а не любовницы и любовника, тем не менее я был взволнован возможностью обнять её, прикоснуться к её гладкой коже, погладить перламутровые ляжки моей милой, ибо не меньше любого скульптора был горд тем, что явил миру такую красоту. Хихикнув и вновь накинув на себя ночную рубашку, она вернулась в постель.
— Ты такой серьёзный, — проговорила она. — Всё тот же Феликс, слава тебе господи. А как Бенедикта? — спросила она, слегка нахмурившись от напряжения, словно пыталась представить её лицо.
— Счастлива наконец, — ответил я. — И я тоже. Всё изменилось.
Она окинула меня быстрым и несколько насмешливым взглядом, словно была в сомнении, то ли я иронизирую, то ли дурачу её. А затем сказала:
— Значит, это правда. Я рада. У тебя уже давно никого не было.
Вернулась Хенникер с подносом на высоких ножках, на котором были вареное яйцо, пара кусочков хлеба, масло и стакан молока. Я наблюдал с волнением, потому что всё это она должна была съесть и выпить только в своём воображении; тарелка, стакан покажутся ей пустыми, хотя она всего лишь устроит небольшой беспорядок на подносе. В идеале рефлекторные движения руки ко рту должны удовлетворить её ощущение, будто она участвовала в привычном ритуале; нельзя было отказывать ей в этом. (Мне вспомнились долгие воображаемые трапезы Рэкстроу в «Паульхаусе».) Покончив со спектаклем, Иоланта откинулась на подушки, отодвинула поднос и вытерла губы.
— Фу, как я наелась! — воскликнула она. — Феликс, а где вечерняя газета? Я хочу посмотреть, какие идут пьесы.
Я отыскал газету, и, шевеля губами, она внимательно прочитала театральные страницы.
— Ни одну не знаю, — подвела она итог и взглянула на дату. — Феликс, сколько времени я здесь?
Пришлось уводить разговор в сторону рассуждениями о долгом пребывании на успокоительных лекарствах, о провалах в памяти и так далее. Она морщила лоб, проглядывая заголовки, прежде чем отложить газету.
— Кстати, — сказал я, — старик Рэкстроу умер.
Всего мгновение она смотрела на меня, широко раскрыв печальные глаза, а потом отвернулась, чтобы сложить салфетку.
— Наверно, оно и к лучшему, — тихо откликнулась Иоланта. — Он был тяжело болен, так что следовало этого ожидать. И всё же каждый, кто уходит, забирает с собой целую эпоху. Рэки был для меня святым, правда святым. Иногда, недавно, когда я думала о том, что от скуки позволила ему спать с моим телом — не со мной, не с моим, так сказать, «ты», — мне было противно и мучительно. В каком-то смысле я всем ему обязана; он сделал мне имя своими сценариями. Феликс, ты когда-нибудь думал о том времени, ты вспоминал Афины?
Она произнесла это с необычной болью, с трудом сдерживая себя.
— Ну конечно же, Иоланта.
Она улыбнулась и качнула головой.
— Один раз я попыталась возродить нас в фильме, тебя и меня. Не сработало. Рэки написал тогда сценарий, но он ничего не понял.
— Не удивительно. Но с какой стати?
— Ни с какой. Я сильна задним умом. Всё, что происходит, как-то не очень задевает меня. А потом я вдруг понимаю смысл случившегося и тогда вновь всё переживаю и всё понимаю. Так было и с тобой тоже. В один прекрасный день, когда я плавала в бассейне, как будто разверзлись небеса и я вдруг поняла, как это было важно и замечательно — мы с тобой. Мы могли бы даже назвать это любовью. Ах, это слово!
— Я всё принял с примерным мужским эгоизмом.
— Знаю. Думаю, ты считал, мы всего лишь… как ты любил говорить? Ну да, «соединяем два нарциссизма и пользуемся телом другого как зеркалом». Жестокий Феликс, всё было не так; иначе почему ты заболел, когда я уехала? Ладно, я тоже очень тяжело болела, но уже потом, возле голливудского бассейна и лишь одну секунду; все удивились, почему я плачу. Вот нелепость. Потом я попыталась сделать фильм о нас с тобой в Афинах, чтобы немного смягчить укоры памяти; но не сработало. Пришлось потратить на это много лет. Нелепо. Фильм всё-таки выпустили, но он был хуже некуда.
Она запачкала яйцом ночную рубашку. Это было совершенно естественно и очень по-детски. Вытерев пятно носовым платком, я, как няня, укоризненно пощёлкал языком.