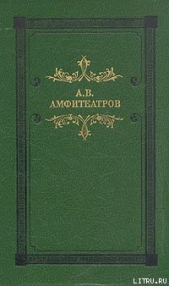Первые воспоминания. Рассказы
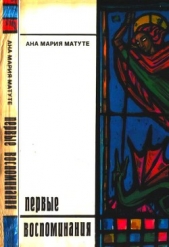
Первые воспоминания. Рассказы читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Хуан думал о книге в красном переплете с золотым тиснением, из которой мама вырвала страницы, сказав: «Это же разврат, а здесь Хуан, да еще в таком опасном возрасте, в огонь все эти непристойности!» Но дедушка рассердился и, канюча, стал выгребать из пепла еще не успевшие сгореть страницы. Мама продолжала упрекать его: «Это же настоящий разврат, сплошная порнография, вот среди чего я росла, вы мне душу исковеркали, из-за вас я была несчастлива в браке».
Но уж если бабушка была развратницей, то дон Анхелито и подавно, он не видел ничего плохого ни в том, что происходило у стены гелиотропов, ни в том, что делала Филомена. Правда, думал Хуан, Филомене простительно — она уже давно умерла и лежит в могиле, на которой еще сохранились призраки роз, когда-то принесенных теми, кто ее помнил.
А дон Анхелито стал таким злобным с тех пор, как мама взяла на его место дона Карлоса, сказав: «Он невежественный, желчный старик». И с той самой поры как его уволили и он перестал давать уроки в доме, дон Анхелито подкарауливал дона Карлоса на углу, потом будто невзначай выходил ему навстречу, сталкивался с ним и ронял на землю книги — Вольтера, Руссо, а дон Карлос корчился от смеха, помогая ему подбирать их, и бормотал: «Пустяки, пустяки». Он прекрасно понимал, что дон Анхелито хочет пустить ему пыль в глаза, унизить этими пожелтевшими книгами мудрости, в которых лежали засушенные бабочки и колокольчики. Наконец взяв себя в руки и успокоившись, дон Карлос насмешливо говорил, зло буравя дона Анхелито взглядом сквозь контактные линзы (которые носил не из тщеславия, просто так было удобнее и практичнее, к тому же в них можно было смотреть вбок), а затем уходил, неуязвимый, исполненный собственного достоинства, и со свойственной ему пунктуальностью ровно без четверти восемь входил в длиннющую, как тоннель, залу, где софа, черные стулья: и стол одиноко стояли, застыв в скорбном отчаянии. К счастью, дона Карлоса не интересовали звезды, он преподавал Хуану математику, подготавливая его к следующему классу (этот год был потерян по вине дона Анхелито). Дон Карлос поднимал брови, словно два кнута, и бичевал ими и без того по-детски растерянного дона Анхелито, у которого были подкрашенные, как у коменданта лагеря, усы и веки без ресниц. Бедный дон Анхелито принимал эти бичующие удары с покорностью старого каторжника, прикованного к своим галерам, вынужденного работать веслами, работать из последних сил, вместо того чтобы с легкостью порхать по жизни, вести непринужденные беседы на всем известные, избитые темы, рассказывать полузабытые истории, стремясь вырваться наконец на простор сквозь застекленные окна. Птицы, улетавшие на другой конец света, возможно, тоже будут метаться и биться в таких же колбах из тонкого стекла, этих блестящих пузырях, сковывающих тысячи других образов дона Анхелито, узника, сидящего взаперти, плачущего и все еще завидующего тому, кто так блестяще знает математику. И Хуан, думая об этом, смотрел на него и смеялся, хохотал, как в тот раз, когда еще маленьким видел на уроке естествознания воробышка, который медленно задохнулся в стеклянной колбе. О жестокий мальчик, над чем ты смеешься? Над чем-ты смеешься, жестокий мальчик? Но разве не для этого принесли воробышка в класс? Тогда для чего же его принесли?
Крах Дома — это всего лишь постепенный отказ от мира, который, как говорил дон Анхелито, эта падаль, эти старые греховодники выжали, точно огромный лимон, и теперь топчут и заплевывают косточками.
Замки, между тем, плесневели и покрывались ржавчиной, колодезное колесо стенало, как беззащитное животное, а небо устремлялось к зиме.
Там, у стены гелиотропов, Хуан повернулся и упал на правый бок: ему нравилось иногда делать вид, будто в него попала пуля. А потом он снова хохотал, точно так же, как тогда, на уроке естествознания. (В Этой Школе Мы Ставим Превыше Всего Формирование Личности, и т. д., и т. д., и т. д.)
Все шло хорошо, пока Хуан не увидел мужчину, который никогда не был мальчиком, красного, потного, притаившегося, готового броситься на жертву и растерзать ее.
— Вот он, — сказал Андрес.
Все трое тяжело дышали: Хуан и Андрес, потому что бегом взбирались по косогору, а тот, потому что все еще прятался.
— Он еще прячется?
— Да, потом он явится к матери, скажет, что пришел за деньгами, но это потом; он всегда так делает.
Гальго сказал:
— Торопиться некуда.
Стоило Хуану услышать этот голос — и в ту же минуту он почувствовал, как все, что связывало их с Андресом, стало уплывать, словно бумажный кораблик по каналу. Хуан подумал: «Передо мной мальчик, такой же, как остальные, только постарше, посуровее нас». Он предполагал, догадывался, что может произойти, если свяжешься с такими. «Если свяжешься с этими людьми, они впутают тебя в какую-нибудь историю», — предупреждал его дедушка, продувая стволы ружья и направляясь танцующей походкой в сад пострелять дроздов, любивших полакомиться сентябрьскими сливами.
— Это и есть твой друг? — спросил Гальго.
В его голосе прозвучало недоверие, а взгляд скользнул по рукам Хуана, нежным, без мозолей, разве что поцарапанным во время игр и ребячьих авантюр. Потом задержался на его ногах, обутых по-крестьянски, что выглядело слишком уж нарочито.
Хуан опустил глаза, в свою очередь уставился на ноги Гальго — на его черные, узконосые, покрытые пылью ботинки — и почувствовал тяжесть на душе.
Уже в баре Гальго сказал Андресу:
— Ненадежный тип этот твой друг.
— Неправда.
— Он нас подведет, на него нельзя положиться, ты же слышишь, как он разговаривает.
— Так ведь он из Дома.
— Ты давно с ним знаком?
— Два года.
Но он соврал, они не дружили и года. Раньше Хуан жил не здесь, у моря. Но он не скажет этого Гальго, а то Гальго не будет ему доверять, поэтому он говорит:
— Хуан уже был здесь, когда мы сюда приехали. С тех пор я его и знаю.
Гальго переменил тему разговора. Он допил вино и спросил:
— Ты видел отца?
Андрес кивнул.
— Что он говорит?
Андрес пожал плечами и уставился на рюмку Гальго, уже пустую.
— Он пришел забрать у матери деньги, которые она получает от отца, — говорил Андрес, пока они вприпрыжку сбегали со скалы к реке. Они бежали вниз, не останавливаясь, а если кто-нибудь из них спотыкался, то делал вид, будто это нарочно. Они бежали, словно их подгонял страх, словно их хлестал своим прутом Гальго. Андрес рассказывал на бегу, едва переводя дух, хотя не очень-то любил распространяться о своих делах.
— Забрать деньги?
— Да.
— А почему она отдает?
— Он старший. Гальго — мой старший брат.
— Ах, так он твой старший брат!
А Хуан-то думал, что у Андреса только младшие братья: тот, что обжегся о жаровню, без правой брови, со сморщенной розовой лысинкой; и другой, еще совсем крохотный, от которого всегда плохо пахло и который лежал в пеленках у стены лачуги, пригретой солнцем, Оказывается, у Андреса еще один брат. Какое плохое известие. Еще один, кроме того, что ходил с крючками на канал и вылавливал оттуда отбросы лагерной кухни, и другого, совсем маленького, который лежал в пеленках, с голыми ножками, родившегося, когда отец уже сидел в тюрьме. Говорят, он даже не верил, что это его ребенок. Еще один, который будет бродить возле проволочной ограды лагеря в надежде, что ему перепадет что-нибудь из остатков пайка, передач в дни посещений, подачек повара Барракона. Нет, Гальго не такой. Оказывается, у Андреса еще один брат. Какое плохое известие. Но этот не станет довольствоваться отбросами, выловленными из канала, этого не отпугнешь, как надоедливого пса. Этот не такой. Какое плохое известие. И незаметно, тихо к нему подкралась грусть, словно синяя огромная муха, которая уселась на глаз сторожевого пса Суро в тот день, когда он заболел, за два часа до смерти.
Они остановились у реки, там, где дно — темное и ближе всего сходятся берега. Здесь можно было перепрыгнуть с одной стороны на другую одним махом. И здесь же настал конец откровениям Андреса. Теперь он уже ничего не расскажет. Он мог говорить так только на бегу, не глядя на Хуана, пока они мчались вниз, усталые, бледные. Но теперь, у воды, он уже ничего не расскажет. Андрес подошел к единственному тополю на берегу и, обхватив ствол руками, прижался к нему. Он дышал глубоко, ровно, стараясь прийти в себя. Теперь он уже ничего не расскажет.