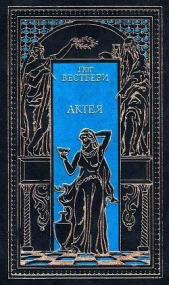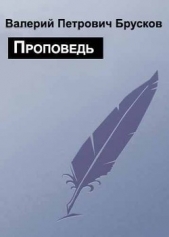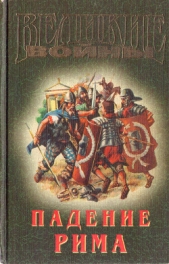Проповедь о падении Рима
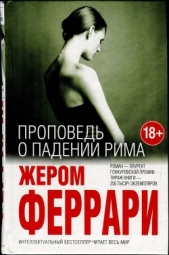
Проповедь о падении Рима читать книгу онлайн
Роман Жерома Феррари в 2012 году стал лауреатом Гонкуровской премии и вышел тиражом 250 тысяч экземпляров. Название его — аллюзия на «Слово о разорении города Рима» Блаженного Августина. Падение могущественной Римской империи — аллегория человеческой жизни: тот, кто сегодня счастлив, не застрахован от того, что завтра останется на обломках былого благополучия. При кажущейся простоте истории, которая стала основой сюжета, этот философский роман отсылает нас ко множеству литературных источников и требует вдумчивого, неторопливого чтения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Везде одни сарды и арабы!
и через зеркало заднего вида бросал на школьников испепеляющие взгляды. Все проходит — затюканные дети, вбиравшие голову в плечи и вжимавшиеся от страха в задние сиденья автобуса, теперь выросли, водитель умер, и никто не удостаивает его могилы и плевком. Либеро был здесь у себя дома. Он не просто окончил все школьные классы, а отучился с блеском, так что его заявки на обучение при престижных высших школах были приняты везде, и его мать, не имевшая ни малейшего представления о том, что такое подготовительные курсы при подобных школах, в приливе чувств и гордости за сына чуть было не задушила его от радости, прижав его к пышной своей груди. Либеро решил поехать учиться в Бастию и в течение двух лет каждый понедельник кто-то из его братьев и сестер ни свет ни заря отвозил его на машине в Порто-Веккьо, откуда он долго ехал до города на автобусе. В Париже Матье попросил родителей тоже разрешить ему записаться на учебу в Бастию. Они бы и разрешили, да школьные результаты не позволяли, и Матье пришлось это признать. В результате он записался в Сорбонну на факультет философии — единственной дисциплины, по которой у него были относительно неплохие оценки, и смирился с тем, что каждое утро ему приходилось трястись на метро и выслушивать лекции в уродливых зданиях района Порт-де-Клиньянкур. Уверенность в том, что изоляция в чуждом ему, лишь условно существующем мире, временна, не помогла ему обзавестись друзьями. Ему казалось, что он общается с призраками, с которыми у него не было ничего общего и которые казались ему невыносимо надменными, словно изучение философии ставило их в привилегированное положение, чтобы постичь суть мира, в котором простой смертный лишь довольствуется обыкновенным существованием. Он все же сдружился с одной из сокурсниц, Жюдит Аллер, с которой время от времени вместе готовился к занятиям и с которой ходил иногда в кино или вечером в кафе. Она была весьма толковой и веселой девушкой; ее блеклая внешность не претила Матье, но любовные отношения он ни с кем завязывать не мог, по крайней мере здесь, в Париже, потому что знал, что все равно в столице не задержится, а заведомо лгать он никому не хотел. И вот так, во имя зыбкого, как туман, будущего, Матье лишал себя настоящего, как это часто, надо признать, случается. Однажды вечером они с Жюдит засиделись в баре рядом с площадью Бастилии, и Матье понял, что опоздал на метро. Жюдит предложила ему переночевать у нее, и он согласился, предварительно предупредив мать по эсэмэс. Жюдит жила в жутко крохотной студии на шестом этаже в 12-м округе. Она выключила свет, поставила спокойную музыку и легла на кровать в футболке и трусиках, лицом к окну. Когда Матье, не раздеваясь, вытянулся рядом, она повернулась к нему, не говоря ни слова; ее глаза блестели в темноте, ему казалось, что она улыбается несмелой улыбкой, он слышал ее глубокое дыхание, все это было волнительно, и он знал, что стоит ему до нее дотронуться, как что-то произойдет, но он не мог этого сделать — ему казалось, будто он уже предал ее и бросил; парализованный чувством вины, Матье лежал без движения и просто смотрел ей в глаза, пока улыбка не сошла с ее лица и оба не заснули. Он воспринимал Жюдит как наименее вероятную возможность. Порой, когда они сидели за чашкой кофе, он представлял себе, как протягивает руку к ее щеке — эта возможность почти отчетливо вырисовывалась перед его глазами — как в кристальном свете он неспешно дотрагивается до пряди ее волос, а затем — всей ладонью — до жаркого лица, и она вдруг медленно, не произнося ни слова, начинает вся обмякать, доверяясь его руке; но он знал, что даже если его настоящее сердце начинало биться от этого сильнее, он все-таки не ринется в пропасть, отделяющую его от этого вероятного мира, ибо понимал, что, слившись с ним, он сам его и разрушит. Мир этот так и оставался незыблемым, на полпути между действительностью и небытием, и Матье тщательно старался удержать его от себя на этом расстоянии в сложном сплетении из половинчатых поступков, влечения, отвращения и неосязаемой плоти, не подозревая, что через несколько лет, когда мир, чью реальность ему вот-вот предстояло выбрать, рухнет и вернет его к Жюдит как к утерянному очагу, и что он будет потом корить себя за жестокую ошибку в выборе судьбы. А пока Жюдит не представлялась ему судьбой, и Матье не желал, чтобы она ею становилась; она оставалась просто поводом для безобидных и нежных мечтаний, благодаря которым неуловимый ход душившего и влачащего его за собой времени вдруг убыстрялся и становился легче; и после двух лет учебы, когда Либеро снова задался вопросом о месте дальнейшего обучения, Матье испытал к Жюдит что-то вроде благодарности, будто именно она спасла его от вязких объятий вечности, из которых без нее он сам бы не высвободился. Матье надеялся, что Либеро переедет учиться в Париж; он так свято в это верил, что ни на секунду не мог себе представить, что получится по-другому, ведь должна же наконец реальность хотя бы время от времени исполнять его мечты. Поэтому он страшно расстроился, узнав, что Либеро записался на филологический факультет в Корте — не по собственному выбору, а потому что у Пинтусов не было денег на его учебу на континенте. Теперь он не сомневался — миром управляло какое-то лукавое и извращенное божество, да так, чтобы превратить его жизнь в длинную череду несправедливых неудач и разочарований; и полагал бы он так, наверное, еще долго, если бы не инициатива матери, поставившая эту тревожную гипотезу под вопрос. Когда Матье, смурной, сидел в гостиной, демонстрируя всем масштаб своего горя, мать подсела к нему и заглянула в глаза с таким лукавым участием, что Матье почувствовал, что вот-вот на нее обидится. Но не успел. Она улыбнулась.
— Мы предложим Либеро пожить у нас. В комнате Орели. Что ты на это скажешь?
И этим летом, как и когда ему было всего восемь, Матье снова пошел с матерью к Пинтусам. Мать Либеро все так же сидела на складном стульчике посреди очередной груды строительного хлама. Она пригласила Клоди с Матье зайти в дом выпить кофе, и они все уселись за огромным столом, за которым Матье сидел уже бесчисленное количество раз. Подошел Либеро. Клоди заговорила на языке, который Матье не понимал, но считал своим родным; она взяла Гавину Пинтус за руку, когда та стала мотать головой в знак несогласия, а Клоди, наклоняясь к ней, все говорила и говорила, и Матье только пытался догадаться, о чем именно шла речь:
— Вы приняли у себя нашего сына, как родного, а теперь настала наша очередь; и никакая это не жалость, просто теперь — наша очередь,
и она все продолжала говорить с неутомимым пылом, пока Матье не понял, взглянув на засветившееся улыбкой лицо Либеро, что мать добилась своего.
~
Крестный путь Бернара Гратаса начался с веселья. Матье с Либеро писали дипломные работы на степень мастера в Париже, когда в то же самое время, в деревне, Гратас начал устраивать в дальнем зале бара еженедельные партии в покер. Вряд ли эта инициатива принадлежала самому Бернару Гратасу. Скорее всего, она исходила от кого-то, кто предпочел остаться в тени, но кто, по всей видимости, понял, что в сети ему попался тетерев, чьим самым сокровенным и нестерпимым стремлением было желание стать общипанным. Партии в покер вызвали всеобщее воодушевление, особенно когда прошел слух о том, что Гратас — игрок никудышный, да еще и легкомысленный, ибо считал, что покер — игра на удачу, и что рано или поздно фортуна ему улыбнется. Он начал курить сигариллы, но удачи они ему не прибавили, впрочем, как и темные очки, которые он носил теперь и днем, и ночью. Он проигрывал достойно, вплоть до благородных порывов бесплатно угощать своих палачей напитками. В один прекрасный день жена Гратаса, его дети и больная старуха неожиданно исчезли. Узнав о происшедшем, Мари-Анжела пришла Гратаса утешить; он был в баре и находился в невероятно экзальтированном состоянии. Он подтвердил, что жена его уехала, забрав всю мебель. Он спал на матрасе, который жена не без боя соизволила ему оставить. Мари-Анжела собиралась было произнести приличествующие ситуации слова, как вдруг Гратас заявил, что это — самое счастливое событие в его жизни, что он наконец избавился от мегеры с тремя детьми, этих неблагодарных идиотов, не говоря уже о старухе, которая перед тем, как впасть в слабоумие и недержание, решила отравить ему жизнь и не поскупилась на самые невероятные гадости, потому что просто вообразить невозможно, сколько в этой старой карге злости — так много, что, наверное, она втайне злорадствует от того, что слегла, потому что именно так она уж точно сведет всех в могилу, пока не помрет, и никто не сможет ее ни в чем упрекнуть, она-то уж точно доживет до ста, упертая старая ведьма; сколько лет ему снились сны то про несчастный случай, то про эвтаназию, но он все держал в себе, стоически выносил жизнь, которую и заклятому врагу не пожелает, но теперь все это позади, настало время жить, и он больше не собирается себе в этом отказывать, он сможет наконец выразить свое истинное «я», которое хоронил все эти годы в глубине души из-за усталости, гадливости, трусости; но все, хватит подчиняться, он заново родился; и Гратас говорил Мари-Анжеле, что это благодаря ей он чувствовал здесь себя как дома, что его окружали близкие друзья, что жена может загнуться — ему теперь было все равно, ведь он заслужил, с огромным трудом заслужил право быть эгоистом, и никогда, никогда раньше он не чувствовал себя таким счастливым, потому что был наконец-то счастлив — Гратас не переставал это подчеркивать с почти неестественной убежденностью, глядя на Мари-Анжелу с такой глубокой благодарностью, что она начала побаиваться, что он вот-вот бросится ее обнимать, от чего он явно едва сдерживался, ограничиваясь лишь «спасибо» и не смея признаться, что благодарен ей, прежде всего, за то, что она произвела на свет Виржини, с которой у него уже несколько недель была связь, и что именно это и сделало его наконец счастливым. И более открыто выражаемого счастья в деревне еще не видывали. Бернар Гратас беспрестанно и безудержно смеялся по пустякам, без устали порхал по бару и нисколько не хмелел, хотя теперь закладывал по-настоящему; он надоедал клиентам своими совершенно неуместными заверениями в дружбе и проигрывал деньги с видимым наслаждением; в его эйфории было что-то глубоко тягостное, как будто она была симптомом какой-то отвратительной душевной болезни, которая вселяла в окружающих страх возможного заражения, и чем услужливее и дружелюбнее Бернар Гратас старался казаться, тем с большей гадливостью от него отворачивались, причем он, похоже, это не осознавал, будучи полным решимости жить отныне в мире, наполненном иллюзиями. Но, быть может, к нашему общему несчастью, царство иллюзии не может быть идеальным, и даже такой человек, как Бернар Гратас, смутно ощущал, что происходящее с ним нереально; ему казалось, что земля уходит у него из-под ног под грузом подозрений, которые не мог ни развеять, ни облечь в слова, а лишь отмести от себя, выставляя свое счастье напоказ с отчаянным и гротескным упрямством; а понял он, почему порой по ночам просыпается с бешеным сердцебиением, в один июньский день, когда Виржини — на его предложение съехаться — презрительно поведя плечом, ответила, что он с ума сошел, и что она больше не желает его видеть, после чего уселась на залитой солнцем террасе и попросила Гратаса принести ей прохладительный напиток, что он и исполнил, не проронив ни слова. То, от чего он пытался бежать, настигло и раздавило его. Виржини бросила на него колючий взгляд.