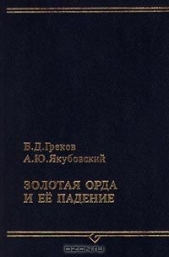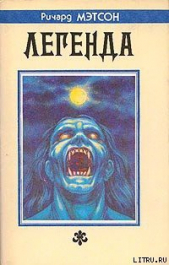Мощное падение вниз верхового сокола, видящего стремительное приближение воды, берегов, излуки и лес

Мощное падение вниз верхового сокола, видящего стремительное приближение воды, берегов, излуки и лес читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вдруг сокол услыхал посвист собственных крыльев, услыхал шумок собственного, стремительно падающего вниз тела. И этот посвист перенес его из мегапространства в пространства обычные…
Падая вниз, сокол почти достиг мышиного облачка (вблизи оно и впрямь окрасилось в пыльный мышиный цвет). Он хотел поднырнуть под облачко, как делал это всегда, хотел погнать стало крылатого мышья вверх, чтобы из-под стада внезапно выскочив, перерезать глотку вожаку и подвожатому, а после одним ловким “хватом” распороть отводным черным когтем живот главной самке стада. Сокол вновь перебрал про себя порядок несложных, приятных, даже усладительных действий, при этом постепенно переставая видеть в “коридорах” воздуха слабоматерьяльные существа, предметы, тени…
Однако внезапно что-то подсказало соколу: опускаться ниже мышиного облачка не след! Облачко может на сей раз вверх и не пойти, может наоборот, всей своей тяжестью (а она у бесплотного облачка была, была!) прижать сокола к воде. И тогда произойдет что-то дурное, ненужное, гадкое. Гадкое не только для сокола, но также и для человека, лежащего на плоту, лицом к небу, вверх. И от предощущения такой вот дурноты и пакости легкий, средний, а затем и сильнейший трепет испуга и одновременно трепет отвращенья охватил птицу. Но тут же сокол и смекнул: уклониться от паденья нельзя! Прервать полет — невозможно! Потому что и человек, и сам сокол, и даже мокрый, гнилой плот — связаны сейчас меж собой какой-то очень крепкой, хоть и невидимой веревочкой…
15
Егерь видел: сокола словно ниточкой привязали к чему-то, от самого егеря за изгибом берега скрытому. Егерь смотрел на сокола и думал о том, что так они всегда и ходили, так всегда и летали вместе: человек и сокол, сокол и человек.
Правда, не над всяким человеком ходил в небе его собственный сокол, и не всякий человек из скопища зверей и птиц выбирал именно сокола. А выбирал сокола обычно человек достойный и властью наделенный. К тому же понимающий, что, собственно, есть сокол. Понимающий: крыло сокола — это, может статься, его собственная, человечья душа, и оскорбить, обидеть птицу — все равно, что оскорбить свою душу. Но не всегда ведь достойный и властный человек бывает еще и умен! Нет, умом человеческим, умом суетным он мог быть набит по самую маковку. Но вот ума высшего, надприродного, ума птичьего и звериного, ума пустынников и малых пророков в нем могло и не быть!
О таком именно властном человеке вспомнил особенной, как бы ему не принадлежащей и нечасто вспыхивающей памятью егерь. Именно такой человек имел когда-то собственного белого сокола, брал его с собой на охоту, пестовал, нежил, хоть охотиться с соколами, как положено, и не умел, да и время уже было другое: не соколье.
И однажды осенним утром человек этот властный взял ружье, усадил на плечо сокола и отправился в питерский чахлый лесок. Был человек добр, борода его и усы были мягкими и почти всегда мокрыми не только от вина, которое пил он сверх меры, но и от тайных, а иногда и явных слез. Был властный человек красив и поступать старался красиво. Был он мягок и так же мягко старался ступать. Он не совершал никакого явного зла, но все его мелкие добрые дела, сложившись вместе, давали отчего-то дурные результаты, и потому жизнь подвластного ему края протекала плохо. От этого человек часто вздыхал, заметно нервничал. Сокол белый, сокол ручной, движеньями крылец и лап, как мог, человека успокаивал, потому что чувствовал: не все гладко и верно в жизни человека, что-то угрожает ему, а значит угрожает и самому соколу.
Тот день был мокрый, слякотный. Лес питерский, лес чахлый, финский, то редел и исчезал почти, то опять выставлялся из мороси. Властный человек, которому с самого утра всего только и хотелось попасть в злато-багряную, сухую до дымка, до пороха подмосковную осень — был явно раздражен. К тому же с утра он выпил две большие стопки водки, ничем водку не закусил и теперь тихо брел перелесками, сам не зная куда. За человеком на цыпочках кралась его свита. Давно следовало остановиться. Перекусить, может просто повернуть назад. Но человек в егерском полковничьем мундире, в болотных высоких сапогах лишь ускорял шаг. Свита поотстала. Человек же захотел пить: страстно захотел и нетерпеливо, чуть боязливо, но и нагловато, слегка истерично и неотступно, — как хотел всего на свете. Ему вдруг примечталось: вот он точит воду из водопровода, вот льет ее себе на лицо, на усы, на шею.
Но водопровода с серебряным вертком и с такой же серебряной лоханью для умываний здесь не было. Зато с невысокого, буроватого, с одного боку как ножом срезанного холма тек ручеек. И даже не ручеек это был, а была всего лишь струйка: легкая, невесомая, прерываемая любым дуновеньем ветерка. К этой струйке человек и устремился. Он рванул висевшую на боку флягу, выплеснул из нее спиртное, стал дрожащими руками собирать во флягу по капле падающую воду. Фляга не успела наполниться и на треть, когда нетерпеливый, пивший с утра водку человек понес ее ко рту. И здесь сокол, сидевший дотоле на полковничьем погоне смирно, спорхнул с плеча и кончиком крыла резко ударил по фляге, заодно легко оцарапав человеку руку. Фляга перекувырнулась, упала в траву, свежая родниковая вода тут же выбулькнула из нее. Труды властного человека оказались напрасными. Такой же напрасной показалась вдруг ему и собственная жизнь. Но вместо того, чтобы понять, что же в этой жизни плохо, — человек осердился. Однако флягу все же поднял и опять с дрожью в руках стал подставлять ее узкое горлышко под прерываемую ветром струйку.
Во второй раз воды удалось набрать больше. Однако усевшийся было на плечо сокол тут же взлетел и снова выбил флягу из пухловатых белых рук. И мало того, что выбил! Сокол на эту упавшую флягу сел, широко раскинул крылья, тихо и предостерегающе заклеготал. Властный человек рванул с плеча ружье и, отгоняя птицу, ударил ее прикладом. То ли он не рассчитал силы удара, то ли действительно так осерчал на птицу, что захотел убить ее, — но только сокол упал на землю замертво. А человек, отказавшийся от белого сокола, а заодно и от своей обязанности всегда и во всем защищать своих помощников и слуг, послал кого-то из свиты на пригорок, чтобы прямо оттуда, от истоков реденькой струйки набрать холодной и бодрящей воды, а не собирать ее здесь по капле. Свитский генерал пыхтя взобрался на обрезанный ножом холмец и увидел прямо у истока бегущей воды двух мертвых гадюк. Гадюки переплелись, и поэтому казалось: это у одной, перекрученной нелепо гадины, торчат в разные стороны две смертоносные головки с приоткрытыми пастями, со стекающей из этих пастей ядовитой слюной.
Двухголовая гадюка генерала поразила…
Человек же властный, которому тотчас о сплетенных гадюках и ядовитой воде доложили, кинулся к соколу.
Сокол лежал на траве рядом с лужицей. Дождь как-то незаметно превратился в пар, кончился. Тускло глянуло финское плоское солнце. Сокол лежал на левом боку, голова его, скинутая на плечо, отражалась в лужице, и от этого казалось, что и у белого сокола тоже две головы. Были эти головы — одна мнимая, другая настоящая — великолепны и прекрасны, хоть и походили в чем-то (если конечно призвать на миг воображение), на головы змеиные.
Властный человек позвал сокола. Сокол не ответил. И от этой наглой немоты сокол враз стал для человека ничем, перестал быть мощной и быстрой птицей, стал птичьей падалью с почуявшими внезапно свободу смерти червями в кишках. И хоть в смерти все равны и все, до определенного мига, равно ужасны, — сокол для чего-то неизведанного и необъяснимого казался более нужным и пригодным, чем двухголовая гадюка. Но вот для чего именно нужен теперь сокол, властный человек определить никак не мог и потому заплакал. Он вдруг понял: его жизнь пропадет так же зря, как пропал сокол, понял — за жизнью этой никакого другого бытия или сверхбытия для него не наступит! Может, как раз потому, что он убил белого сокола. Понял властный человек и то, что душа, что суть его нынешней жизни без соколова, белого с желтинкой и коричневыми крапинками крыла — есть ничто, nihil, нуль! Понял, что и остатка души ему от лежащей птицы уже не оторвать, не поднять. Не поднять даже выше кустов и этого пагорба с гадюками, понял, что наоборот: летит его душа сейчас куда-то вниз, вниз, упадает ниже болот, яруг, ниже северных холодных рек. И только свист, слабый трепет, только щелчки и слабый дым от нее, от души, отслоившись, — остаются и виснут над землей.