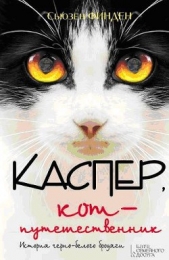Город и сны. Книга прозы
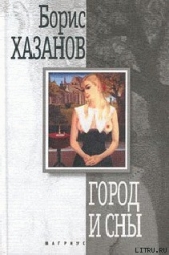
Город и сны. Книга прозы читать книгу онлайн
Представительный том прозы Бориса Хазанова, прозы удивительно гармоничной и привлекательно несовременной, если иметь в виду «злобу дня». В его рассказах и повестях настоящее перетекает в прошлое, автор и герой постоянно меняются ролями (что создает напряженную интригу), сон и явь практически неразличимы. Мотив сна — вообще один из главенствующих в прозе Хазанова, будь то рассказ-греза «Город и сны», рассказ-воспоминание «Дорога» или необычная повесть «Далекое зрелище лесов», в которой герой-писатель в наши дни поселяется в глухой деревне и очень скоро обнаруживает, что по соседству с ним «живут» бывшие владельцы дворянской усадьбы, «комиссары в пыльных шлемах», святые Борис и Глеб, а также тени из его прошлой жизни… Завершает том легендарная повесть «Час короля», принесшая Борису Хазанову всемирную славу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В письме к Н. Страхову, жалуясь на очередную остановку в работе, Толстой вскользь обронил: «Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения…»
Поразительное словосочетание это — энергия заблуждения — с исчерпывающей ясностью объясняет смысл его формулы: «весь мир погибнет, если я остановлюсь». Формулу эту ни в коем случае не следует понимать буквально. Это чувство, это сознание, что весь мир остановится, если он прекратит работу над своим романом, — всего лишь энергия заблуждения, то есть самообман, без которого он не может творить. Да и в письме к А. А. Толстой, которое цитирует Б. Эйхенбаум, эта мысль просвечивает довольно ясно. Толстой ведь прямо говорит там, что ему, в сущности, нет дела до того, живем ли мы и работаем «как белка в колесе». Пусть даже это действительно так. Чтобы жить и работать, «этого не надо говорить и думать».
В сущности, Толстой рассуждает как экзистенциалист: пусть моя жизнь и работа не имеют ни малейшего смысла, я все равно должен жить и работать так, как будто мир погибнет, если я остановлюсь.
Но если это так, в чем же тогда разница между героическими стимулами, движущими пером Льва Толстого, и героическими стимулами, побуждающими творить писателей новой эпохи?
Разница в том, что на тех писателей, от имени которых говорит в своем «Письме» Борис Хазанов, никакая энергия заблуждения уже не действует. В том мире, где им предстоит жить, источники этой энергии давно иссякли. Ни при каких обстоятельствах, никакими силами они уже не смогут заставить себя поверить, что их работа может хоть что-нибудь изменить в мире, где «все мы точно висим на подножке переполненного трамвая». Но даже ощущая себя «обездвиженным придатком в мире, который отлично может обойтись без него», он упорно, настойчиво, вопреки всем запретам и помехам, продолжает заниматься своим делом. Не потому что верит, что это нужно его ближним или «дальним», современникам или потомкам, читающей публике сезона или человечеству, а только лишь по той единственной причине, что это необходимо ему самому.
Ему было 15 лет, когда он сделал ошеломившее его открытие.
Но лучше пусть он расскажет об этом сам:
"Я жил чудной, магической жизнью подростка, которую я не в силах сейчас описать. Глухое татарское село, больница, где работала моя мать, с общим корпусом, как две капли воды похожим на флигель, где находилась палата No 6, холмы, поросшие лесом, река, сугробы, сани, звон почтового колокольчика, милиционер в форменной шинели и лаптях, деревенский базар, все впечатления никогда не виданной мною «почвы» перемешались в моей душе с образами книг, с «Разбойниками» и «Заговором Фиеско», с Фаустом, в котором больше всего меня поразили не приключения с Маргаритой, а таинственная обстановка средневековой кельи, знак макрокосма и духи, с Герценом, со стихами Блока… В это же время совершилось во мне то, что можно было бы назвать «кризисом веры».
Кризис заключался в том, что я перестал верить в советскую власть. Точнее, я перестал верить в то, чему учили, что говорилось о политике, о революции и социалистическом строе… Каждый день я открывал что-нибудь новое: каждый день падал какой-нибудь очередной глиняный идол. Так повалились одна за другой «первая в мире страна», «власть трудящихся», «дружба народов», «закон, по которому все мы равны», рухнул, разбившись вдребезги, и сам великий вождь и учитель… Как и подобает мыслящему человеку, я вел дневник, в котором начертал, когда мне было 16 лет, мысль, казавшуюся мне необыкновенно оригинальной, о том, что «у нас здесь, в СССР, — фашизм!». Я рассуждал о том, что если бы Ленин был жив, то был бы наверняка объявлен врагом народа и расстрелян, вроде того как у Достоевского Великий инквизитор собирается сжечь Христа, действуя от его же имени".
Я сделал эту длинную выписку из неопубликованного автобиографического наброска автора этой книги не для того, чтобы показать, каким умным и проницательным подростком он был, как рано прозрел, как быстро открылись ему истины, которые многие его сверстники постигали десятилетиями, по капле выдавливая из себя прочно вбитые в их бедные головы фетиши. Цитата эта понадобилась мне для того, чтобы показать, какую огромную власть над его душой уже тогда имела литература. Все его жизненные впечатления, все социальные, политические и экономические откровения, рожденные первым столкновением (война, эвакуация) с реальностью советской жизни, переплетены, пронизаны литературными ассоциациями. Тут и чеховская «Палата No 6», и драмы Шиллера, и «Фауст» Гете, и Герцен, и Блок, и Великий инквизитор Достоевского…
Немудрено, что, окончив школу, он без колебаний выбрал для себя филологический факультет. Он не мыслил свою будущую жизнь вне литературы. Литература (точнее, классическая филология) должна была стать его профессией.
Но тут произошло событие, резко повернувшее всю его жизнь.
О причинах этого рокового события можно было бы не говорить, поскольку, как сказано в уже цитировавшемся мною его автобиографическом сочинении, в то время в нашей стране «вероятность попасть за колючую проволоку для каждого превысила вероятность заболеть раком, угодить под автомобиль или лишиться близкого человека».
И все— таки если не о причинах, то о конкретных обстоятельствах, послуживших поводом для его ареста, тут надо сказать. Потому что и тут дело не обошлось без художественной литературы.
"Я сидел в углу за крошечным столиком, — вспоминает он, — ночью, под яркой лампой, а в противоположном углу комнаты, на безопасном расстоянии, за массивным столом под портретом Лаврентия Берия сидел следователь и перелистывал бумаги; это могло продолжаться много часов. Вошел некто с рыбьим выражением лица, следователь протянул ему листок со стихами, они действительно были переписаны моей рукой.
Я смерть зову, смотреть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе…
Человек смерил меня взглядом и произнес:
— Хорош фрукт, а?!"
Казалось бы, это комическое недоразумение тотчас же должно было разъясниться: стоило только подследственному тактично разъяснить следователю, что инкриминируемые ему крамольные стихи сочинил отнюдь не он, а Шекспир. И поскольку сочинены они были без малого четыреста лет назад, их ни при каких обстоятельствах нельзя счесть клеветой «на советский общественный и государственный строй».
Но вся штука в том, что сам он, оказывается, вовсе не считал случившееся недоразумением, поскольку «стихи с абсолютной точностью выражали отношение подследственного к славной действительности первого в мире социалистического государства, к его охранительным силам, к его вождю, они удостоверяли правильность доносов, лежавших на столе у следователя, — это и было главным. Поэтому было бы лицемерием называть себя жертвой беззакония».
Впрочем, 66-й сонет Шекспира, переписанный его рукой и обнаруженный в его бумагах, был не единственным и даже не главным содержанием заведенного на него дела.
Главным содержанием дела оказалось другое, уже не столь зыбкое и эфемерное, а куда более основательное обвинение. Роковым образом оно тоже был связано с гибельной страстью подследственного к художественной литературе.
"Вскоре после войны, — вспоминает он, — в Москве вышел роман Ганса Фаллады «Каждый умирает в одиночку»… Незачем пересказывать содержание этой достаточно известной книги. Я скажу о ней лишь несколько слов. В ней рассказано о стране, где все боялись друг друга, потому что каждый подозревал в другом доносчика. Люди затыкали уши, чтобы не слышать слова правды, и поэтому тот, кто осмеливался их произнести, был заведомо обречен. Он был обречен задолго до того, как был выслежен и арестован. В этой книге комиссар Эшерих объясняет уличному бродяге, что бывает с теми, кого схватит тайная полиция: