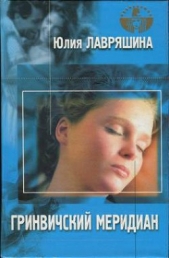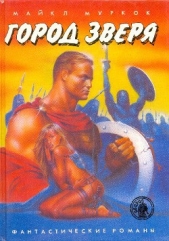Город

Город читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разговора не получалось.
Я, сам не подозревая того, проделывал всё, что проделывают в таких случаях профессиональные писатели. Я отнимал трубку у командира и всучивал ее старпому. Командиру я в утешение отдавал папиросу. Я уточнял, что командир и старпом стояли в мокрых дождевиках. Я сообщал, что за кормой лежал Кронштадт… — не помогало.
Я кидался к сигнальщику и давал ему звонкую фамилию Гегенава. Я сообщал, что сигнальщик был грузин, но это ещё больше запутывало дело. Одного грузина я видел в трамвае. Я мысленно нахлобучивал на него бескозырку и представлял, как он скажет: «Крэйсер по лэвому борту». Рядом с этой колоритной фигурой командир миноносца Петров и старпом Иващенко исчезали бесследно. Отчаявшись, я возвращался к описанию моря, но ничего сверх того, что волны играли, а шторм настигал, сообщить не мог. Я в жизни не видел моря. Один раз меня возили на пароходике в Петродворец, тусклый залив лежал как лужа, что не помешало мне укачаться.
В отчаянии я подумывал: не написать ли роман? Но, к чести моей, признавал, что роман мне ещё не по силам. Романа должно быть очень много. В первой главе романа лейтенант должен был ехать па грузовике и угощать шофёра ленинградскими папиросами. Во второй главе ему следовало стоять на высоком морском берегу, смотреть вниз на кораблики и пытаться угадать свой «Гневливый» из семи миноносцев, где шесть остальных: «Гневящийся», «Гневный», «Гордящийся», «Гордый», «Горделивый» и «Ябеда». В главах третьей — шестой лейтенант спускался к причалам, представлялся начальству и поселялся в каюте. В главах седьмой — десятой лейтенант вспоминал, как учился в десятом классе в городе Лебедянь и сидел на скамейке под вязами с девушкой Лидой… С грустью я сознавал, что всё это мне не под силу. Тем более, что в конце, через долгие пятьсот страниц, на зачётных флотских учениях лейтенант должен был выдумать приспособление для быстрейшей артиллерийской стрельбы. Все придуманные приспособления в романах уже описывались, а нового я не знал. Без каюты, без девушки Лиды, без спорящих о лейтенантской судьбе адмиралов, а самое главное — без долгих и утомительных разговоров про методы воспитания и честь офицера романа не получалось. И романа должно быть очень много.
Я вздыхал.
Оставалось писать рассказ.
И однажды, — мне было тогда восемь лет, — посетило меня озарение: вовсе не обязательно писать морские рассказы на отечественном материале, который требует сдержанности и мужественных разговоров. Дело было на зимних каникулах, снежным солнечным утром. Холодея от близкой удачи, от близости торжества, я принялся мыть чернильницу и двигать обеденный стол.
Как и все, я ходил в школу, потрясая в портфеле чернильницей-непроливашкой. Названия своего чернильница не оправдывала: после любой незначительной потасовки, каких в нашем классе и переулке хватало, все тетради и книжки, что были в портфеле, оказывались в фиолетовых мерзких потёках. Непроливашку я презирал. Она годилась на то, чтобы делать уроки, решать задачи про яблоки и выписывать бесконечно длинные упражнения по русскому языку, но писать рассказы, обмакивая перо в её узкое горлышко, я считал недостойным. Я подолгу, с тоской и завистью глядел в комиссионных магазинах на пышные хрустальные приборы с распластавшими крылья орлами, с маячными башнями и якорями; я был убеждён, что уровень творчества прямо зависит от убранства писательского стола. После слёзных моих молений бабушка принесла мне из канцелярии, где служила она, гранёную стеклянную платформочку с отверстием, куда вставлялся латунный стаканчик. Я был счастлив.
Я быстренько вымыл чернильницу, не заметив, что изгадил чернилами раковину в коммунальной кухне, и застелил обеденный стол газетой, взятой с комода, не подумав о том, что газета лежала под сахарницей неспроста. (Вечером, после выволочки за раковину, обнаружилось, что в газете, принесённой с работы отчимом, была таблица выигрышей лотереи.)
Осторожно налив в латунный стаканчик чернил из литровой бутылки — чёрной и отливающей зеленью, как майский жук, я заткнул бутылку тряпочкой и спрятал обратно за комод. Достал тетрадку по русскому языку в редкую косую линейку, выдрал из неё две первые страницы с ненужными больше упражнениями, — и задумался.
Нужно было придумать, о чём писать.
Название, решил я, придумается после. А пока…
Я решительно обмакнул перо и написал:
«17 сентября 1959 года…»
Шёл январь пятьдесят девятого, и каждому было ясно, что я пишу фантастический рассказ. Я мог бы написать и «17 сентября 1979 года», но уноситься мыслью на двадцать лет вперёд было боязно. Все в нашем классе знали, что через двадцать лет жизнь на планете будет другой. Метро и троллейбусы отомрут, их заменит система труб, где снаряд с пассажирами понесётся под давлением сжатого воздуха. Из города в город мы будем летать на ракетах, а в булочную — на вертолётах. Дома и кварталы станут дюралюминиевые и будут висеть над землёй. И, если сказать по совести, я боялся слегка поднаврать, сочиняя про далёкое будущее. Я боялся, что я доживу, и мне будет немного стыдно. Сентябрь и то был безумно далеко: в следующем учебном году, в третьем классе. «17 сентября», — перечёл я и остался доволен. Сентябрь был на месте. Не лето, но — в южных широтах — и не осень. Мне, признаться, уже надоели шторма. К тому же, мне втайне неимоверно нравилось, как это звучит: семнадцатое сентября. Представьте себе роман, где действие начинается пятого или двадцатого, пусть даже восемнадцатого числа, и вы сразу поймёте, что всё дальнейшее будет враньём.
Январское утреннее солнце светило в окно, в комнате стоял холодок; холодок восторга перед величием и красотой того, что я сейчас напишу, томил мои пальцы.
«17 сентября 1959 года линейный крейсер…»
Досадуя на задержку, я быстро задумался; крейсер должно было назвать весомо и убедительно; крейсер был, без сомнений, английским (не мог же ходить в южных широтах немецкий крейьсер!). «Манчестер»? Название для линкора. «Лондон»? Всякий дурак назовёт… «Ливерпуль»? Слишком мягко; и на лилипута похоже. «Глазго»? Нет, это легкий крейсер. «Бирмингем» — транспорт; когда мне понадобится транспорт, я назову его «Бирмин гем». «Кейптаун»? Тяжёлый танкер. «Вестминстер»? Тоже линкор. «Сити»? Лёгкая шхуна. «Шотландия»? Яхта.
Крейсер!.. Мрачный, тяжёлый, с грязно-зелёной бронёй бортов, с бронированными круглыми башнями, чёрными трубами… Три чёрных трубы — и две мачты, тоже чёрные, красно-белый с синими клиньями английский флаг, флаг Великой Британии, властительницы морей! Мрачно, весомо, торжественно и красиво… «Мизерабль»!
«Мизерабль» — было то, что нужно. Недобро и тяжеловато, как раз для линейного крейсера с чёрными трубами и грязной бронёй. (Я не знал, что такое «Мизерабль», неизвестно откуда мной взятое, но это было неважно.)
Выпячивая челюсть, недобро, угрюмо ворча, я медленно, упи ваясь моим «Мизераблем», писал: «линейный крейсер „Мизе рабль“ входил…»
Я знал, куда входил крейсер. Прекрасная синяя лагуна раскинулась передо мной. Был нежный час утра в южных широтах. Лагуна синела. Вода поблескивала под солнцем. Лежал золотой песок. Над синей лагуной высились зелёные горы, одна из которых была потухший вулкан. Зелень сочно блестела. В хороший бинокль можно было увидеть, как прыгают в чаще ветвей обезьяны.
Словом — просто туземная бухта.
«Линейный крейсер „Мизерабль“ входил в туземную бухту».
И тут словно кто-то стукнул меня по затылку, и я, торопясь, приписал: «Ничто не предвещало беды».
«Чёрт меня подери», — услышал я скрипучий медленный голос. «„Чёрт меня подери“, — написал я, — сказал капитан Бен Джойс».
Бен Джойс у меня выскочил как-то сразу и был здесь вполне уместен. Уместным было и слово капитан. Это на наших кораблях были командиры: подтянутые, бравые, с ясными лицами. Они чеканными голосами командовали «Полный вперёд!» и молодо мчали свои миноносцы сквозь бури и шквалы к победам. А на «Мизерабле» мог быть только капитан: кривозубый, обрюзгший и старый, вечно небритый, в мятой нелепой фуражке с чёрно-рыжим полосатым околышем. Он пил гнусный ром и вешал матросов на марса-рее. Он говорил, скрипя; «Чёр-рт меня подери…» Голос его был таким же, как у ворон, которых водилось много у нас в переулке и по берегам Ждановки, особенно осенью и весной. Они сидели, нахохлясь; на чёрных ветвях и неодобрительно относились к нашим попыткам сшибить их камнем. «Чёр-рт… Чёр-рт…» — медленно и раздражённо говорила ворона, поводя головой. Когда камень, наконец, ударялся в опасной близости в сук или ствол, ворона неохотно снималась с дерева и, медленно взмахивая тяжёлыми крыльями, уходила, боком, кренясь и ворча: «Чёр-рт меня побери. Не нр-равится мне всё это…»