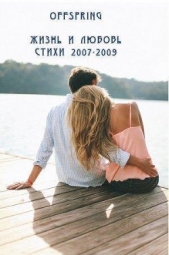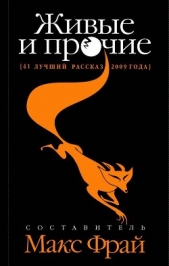Вопрос Финклера

Вопрос Финклера читать книгу онлайн
Впервые на русском — роман-лауреат Букеровской премии 2010 года!
Говард Джейкобсон — видный британский писатель и колумнист, популярный телеведущий, лауреат премии имени Вудхауза, присуждаемой за лучшее юмористическое произведение. Когда критики называли его «английским Филипом Ротом», он отвечал: «Нет, я еврейская Джейн Остен». Роман «Вопрос Финклера» — о мужской дружбе и трагических потерях, о искуплении любовью и чудодейственной силе заблуждения, о сбывающемся через десятилетия предсказании цыганки и обмотанных ветчиной дверных ручках — стал первой откровенно юмористической историей, получившей Букера за всю историю премии.
Объявляя победителя, председатель жюри, бывший придворный поэт британского королевского двора Эндрю Моушн, сказал: «Роль комедии в обществе изменилась — нам с ней, пожалуй, теперь живется проще, чем когда-либо… Это изумительная книга. Разумеется, очень смешная, но и очень умная, печальная и тонкая. В ней есть все, чего от нее ожидаешь, и гораздо больше. Совершенно заслуженная победа».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Помнишь ту дубовую дверь, что недавно навесили в музее? Хотя, возможно, ты ее не видел. Это двустворчатая дверь бокового входа — с той стороны, где будет твоя любимая беседка для чаепитий. Я как-то показывала тебе фото медных ручек в форме шофаров — бараньих рогов, — которые мы для этой двери заказали. Вспомнил? Так вот, — только не пугайся — дверь и ручки осквернили. Это случилось во второй половине дня, когда я работала внутри здания с архитектором, потому что в обеденный перерыв все было нормально. А уже перед уходом я обнаружила это.И каким же надо быть ублюдком, чтобы вытворять такое!
Треслав сразу подумал о свастиках. Он читал, что в последнее время свастики все чаще появляются то тут, то там. Он говорил об этом Финклеру, но Финклер в ответ попросил не беспокоить его, пока евреев не начнут открыто резать на улицах. Гребаные свастики!
— Чем их нарисовали? — спросил он. — Краской?
Он боялся услышать, что свастики были нарисованы кровью. Для этих целей все чаще использовалась кровь или фекалии. Иногда сперма. Ранее Хепзиба уже получала пару таких посланий в кроваво-фекальном исполнении.
— Подожди, дай мне закончить.
— Ну так не тяни.
— Это был бекон.
— Что?
— Это был бекон. Они… я полагаю, работал не одиночка… они обмотали дверные ручки ломтями бекона. Израсходовали две или три упаковки — в общем, не поскупились.
И она вновь закрыла лицо руками.
— Ужасно, — сказал он. — Какая гнусность!
Хепзибу начало трясти, и он поспешил ее обнять.
— Что за подонки! — сказал он гневно. — Так бы взял и прибил их на месте!
И только тут он понял, что она трясется от сдерживаемого хохота.
— Да ведь это всего лишь бекон, — сказала она.
— Всего лишь бекон? Всего лишь?
— Я не говорю, что это милая шутка. Ты прав, это гнусность. И замысел был гнусный. А получилось убого и глупо. Неужто они рассчитывали, что мы сразу соберем вещички и сбежим из особняка? Что мы свернем планы по устройству музея из-за нескольких ломтиков бекона? Что мы в панике покинем эту страну? Это же абсурд. Надо видеть в этом смешную сторону.
Треслав попытался увидеть смешную сторону.
— Пожалуй, ты права, это смехотворно, — сказал он и для убедительности выдавил смешок.
Хепзиба утерла слезы.
— С другой стороны, — сказала она, — это заставляет задуматься о происходящем в стране. Когда читаешь о таких же выходках в Берлине двадцатых, невольно думаешь: «Почему они тогда не распознали угрозу и не сбежали из Германии, пока это было возможно?»
— Наверное, они тоже старались увидеть в этом смешную сторону, — предположил Треслав.
Он снова помрачнел. Хепзиба вздохнула.
— И это происходит в Сент-Джонс-Вуде, — сказала она. — Не где-нибудь, а прямо здесь.
— От них нигде не укроешься, — сказал Треслав, вспоминая, как с ним обошлись чуть ли не на пороге Дома вещания. «Ах ты, жид!»
Оба замолчали, воображая орды антисемитов, бесчинствующие на улицах лондонского Вест-Энда.
Потом Хепзиба начала громко смеяться. Она представила себе, как вандалы старательно обертывают жирными ломтями дверные ручки и запихивают кусочки сала в замочные скважины (об этой детали она забыла сказать Треславу). А перед тем они заходят в ближайший универмаг за «боеприпасами», расплачиваются в кассе, возможно используя дисконтную карточку, и скрытно, как партизаны, с беконом наперевес подбираются к Музею англо-еврейской культуры, на здании которого еще нет вывески, так что его даже нельзя считать существующим.
— Дело не только в их преувеличенном представлении о нашем страхе перед свининой, — сказана она, отсмеявшись. — Они наверняка не знают, как я люблю сэндвичи с беконом. Но дело еще и в их преувеличенном представлении о нашей вездесущности. Они находят нас даже раньше, чем мы сами находим себя. От них нигде не укроешься как раз потому, что им— так они думают — негде укрыться от нас.
Треславу было трудно угнаться за переменами ее настроения. Постепенно он понял, что она не то чтобы переходит от страха к веселью и наоборот — она испытывает оба этих чувства одновременно. Тут не требовалось примирения противоположностей, так как страх и веселье в ее понимании не противопоставлялись, а естественно дополняли друг друга.
У Треслава так не получалось. Он не обладал нужной эмоциональной гибкостью. И он не был уверен в том, что хочет ею обладать. Ему виделся в этом элемент безответственности и даже кощунства — как если бы он вдруг расхохотался в ту минуту, когда Виолетта испускает дух на руках у Альфредо. Он попытался представить себе такую ситуацию, но не смог.
В очередной раз за последние дни он чувствовал себя провалившим экзамен.
Глава 9
Мозг Либора начал разрушаться. Он сам поставил себе такой диагноз.
В первые месяцы после смерти Малки каждое утро для него начиналось с горького разочарования. Он просыпался с надеждой обнаружить ее в квартире. Ему казалось, что простыни на ее стороне постели смяты, как будто она только что встала и вышла из спальни. Он звал ее. Он открывал платяной шкаф и изучал его содержимое, представляя, что помогает ей выбрать наряд на сегодня. Сделав выбор, он мысленно видел свою жену в этом наряде и ждал — а вдруг она в нем материализуется?
Все его воспоминания в эти месяцы были исполнены боли, но притом сладостны. Теперь же он начал вспоминать другое, и боль стала почти невыносимой. Он вспоминал все неприятности, с ними случавшиеся, все размолвки между ними и все досадные последствия их поступков. Он раздражал ее родителей. Он помешал ее музыкальной карьере. Им не удавалось завести детей, но в первое время их это мало заботило, пока у Малки не случился выкидыш, который оказался тяжким ударом для обоих именно потому, что прежде их это так мало заботило. Она отказывалась ездить с ним в Голливуд, поскольку не любила самолеты и не стремилась заводить новые знакомства. Она говорила, что он — это единственная компания, в которой она нуждается. Ее интересовал только он. И теперь он думал, что эти его поездки были совсем не нужны, доставляя только мучения им обоим. Без нее он чувствовал себя очень одиноким. Он подвергался искушениям, которые преодолел бы без особого труда, будь она с ним. А возвращаясь, он изо всех сил старался оправдать ее ожидания как путешественник, привезший массу интересных историй, и как любящий муж, который не растратил пыл на чужбине и ни в чем не подвел ее любовь и ее веру в него.
Ни одна из этих мыслей не несла негатива в отношении Малки, однако они изменили атмосферу его воспоминаний, как будто сияющий ореол — нет, не исчез, но заметно потускнел. Может, оно и к лучшему, думал он. Таким образом сама природа нашего мышления помогала ему пережить утрату. Вот только хотел ли он пережить ее таким образом? Да и кто она такая, эта природа, чтобы решать за него?
Хуже всего были воспоминания о некоторых вещах, омрачавших их жизнь независимо от того, знали они об этом тогда или нет. Его собственные родители в подобных случаях употребляли выражение на идише, которое в ту пору казалось ему просто синонимом слов «давным-давно»: ale shvartse yorn— буквально «все эти черные годы». Но все эти черные годы были не их — его и Малки — годами. Эти годы омрачались антимифами о их любви, которые создавали чудовища, стремившиеся доказать, что их жизнь была совсем не раем, а чем-то гораздо более напоминавшим ад.
Родители Малки, гортанно-горластые Гофманстали, были немецкими евреями и владельцами недвижимости, которую они сдавали внаем. С точки зрения Либора, смотревшего на все через призму чехословацкой трагедии, это была наихудшая разновидность евреев. Гофманстали, в свою очередь, были настолько разгневаны выбором своей дочери, что едва от нее не отреклись. Они третировали Либора так, словно он был грязью под их ногами; они не пришли на их свадьбу и впоследствии требовали, чтобы Либор не допускался на любые семейные мероприятия, включая их собственные похороны.