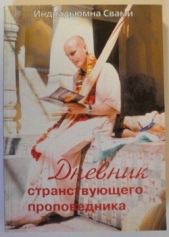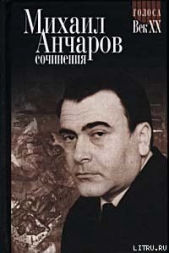Записки странствующего энтузиаста

Записки странствующего энтузиаста читать книгу онлайн
«Записки странствующего энтузиаста» — роман Михаила Анчарова, завершающий его трилогию о творчестве. Если в «Самшитовом лесе» (1979) исследуются вопросы научно-технического творчества, если роман «Как птица Гаруда» (1986) посвящен творчеству в области социального поведения, то «Записки странствующего энтузиаста» — это роман о художественном творчестве. Он написан в нетрадиционной манере, необычен по форме и отличается страстностью в отстаивании наших идеалов и оптимизмом. В этом романе причудливо переплетаются лирика, сатира, тонкие оригинальные наблюдения и глубокие философские размышления о сути искусства. Кроме того — это еще и остросюжетный роман-памфлет, в котором выделяется как главная и важнейшая проблема — борьба против термоядерной угрозы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Восхищение в отличие от всех остальных человечьих способностей — есть самая глубинная. И значит, прежде всего будем восхищаться самой этой способностью. Что это значит практически? Что значит восхищаться самой способностью восхищаться? Это значит восхищаться тем, что уже есть — и на белом свете, снаружи человека и внутри человека — то есть реальностью.
Не надо только вставать в позу, сир, и заранее оплакивать того, кто этому поверит. И метать что-нибудь громкое и пахнущее против «призыва удовлетворяться тем, что есть», против «остановки прогресса», против «тех жалких людишек, которые…» и так далее. Знаем, знаем, сир, сейчас все знают все слова. Не надо вставать в позу. Потому что и вы, и я, мы оба знаем, что и эта ваша поза — липа. Или, говоря научно, — туфта.
Потому что и вы, и я оба прекрасно знаем, что все равно, если человек восхищается, он восхищается тем, что уже есть. Мечтать и вздыхать он может о чем угодно, в том числе и о том, чего еще нет или уже прошло, а восхищаться — только тем, что есть. Вот так, сир. Можно ничем не восхищаться, можно это восхищение погубить, но восхищаться человек может только тем, что есть. Все. Надоело.
Нет, ну это мне нравится! Нет ни одного аргумента против, и все-таки вопят — как можно к этому призывать? Да вы соображаете? Ничего. Соображаю.
Можно восхищаться чем угодно — мыслью, цветком, авторучкой, куском мяса, картиной, корзиной, картонкой и маленькой собачонкой — любым багажом, бубликом, ангелами, гангстерами, печенью Прометея, Белокурой Бестией. То есть само восхищенье не предрешает того, что из этого выйдет. Но чтобы что-нибудь вышло, нужно, чтобы человек или человечество были чем-то восхищены. То есть как бы похищены добровольно. Многие дамы даже восхищаются, когда их похищают.
Когда ублюдок идет на немотивированное преступление или жестокость, то есть не с отчаяния, то это он восхитился своим секундным могуществом — тайным или явным. А больше ничем. Потому что, если бы он был абсолютно уверен, что с ним сделают то же самое — скажем, запустят в машину, которая выдавит ему глаз, или переломит колено, или станет отбивать ему почки в ритме «диско», то есть сделает с ним то же самое, что он сделал с кем-то, он был бы тихий, как зайчик, и призывал любить ближнего. Но он надеется, что его будут судить, если поймают, то есть причинят ему не то, что причинил он. Так что восхищенье еще ни о чем не говорит. Потому что важен сам предмет восхищенья. Но восхищенье нельзя и запрограммировать. Восхищенье — это внезапное состояние увлеченности — на секунду, или на жизнь, или на века.
Важно лишь, чтобы то, что мелькнуло перед человеком, было реальным, и чтобы оно оказалось лучше, чем то, на что он мог рассчитывать или надеялся.
Не удовлетворяться, а именно восхищаться тем, что есть. Потому что все равно так всегда происходит.
Речь не о том, что, мол, не надо сопротивляться, бороться, опровергать, искать новое, творить, наконец — это все остается, куда денешься! И всему этому человечество училось и учится с переменным успехом. Но вот что оно проглядело — если не восхищаться, то не только по-новому не заголосишь, но и по-старому будешь стесняться даже икать, и тогда — историческая хана и необыкновенно прогрессивные кранты. Значит, надо не терять саму эту способность восхищаться, потому что с нее все начинается. А если человек покушается на саму эту способность, то он должен о себе знать, что он гад, змий, враг рода человеческого, который расчищает дорогу тому окончательному кретину, который однажды захочет освободить человечество от самого человечества.
Мой мальчик, «И если сказать не умеешь „хрю-хрю“, визжи, не стесняйся, — У-и-и!». Главное — не потерять способность восхищаться.
Не стесняйся, что не умеешь свое или чужое «хрю-хрю». Увы, все равно тебе этого не избежать. И в твоей жизни будет достаточно свинства, которому ты будешь сопротивляться, как сможешь, но если не будет восхищенья, то вообще ничего не будет. Чем восхищаться — это совсем другой вопрос, и люди ищут на него ответ. Потому что восхищеньем немедленно кто-то пользуется. Но если потерять саму эту способность восхищаться, то ничего не будет — ни вопросов, ни ответов, потому что пропадет у тебя надежда на человеческую жизнь, так как ни бацилла, ни саранча, ни гад не восхищаются, но они очень хотят, чтобы и ты не восхищался.
Вот какая длинная философия у маленькой поездки на завод роботов.
И мы поднимаемся по лестнице мимо цеховых диаграмм и портретов, мимо женщин и мужчин в светлых халатах, которые поглядывают на нас нейтрально.
Я думал, будут показывать цех и роботов, но сказали, что надо выступать.
Ну что ж, потолкуем. Теперь я уже ничего не опасаюсь.
Предупредили: «Времени на встречу — полчаса. Цех роботов. Все по секундам».
Дорогой дядя!
Ну наконец-то! Состоялось!
Сейчас передали в программе «Время», что профессор Ферфлюхтешвайн заявил (цитирую): «У нас хватает ядерного оружия, чтобы устроить 600 000 Хиросим, или 2400 войн, равных второй мировой войне».
Я проверил. На второй мировой войне погибло 50 миллионов людей. 2400 умножим на 50 миллионов = 120 миллиардов покойников. А в Хиросиме сгорело 200 тысяч человек. 200 тысяч умножим на 600 тысяч Хиросим — тоже 120 миллиардов покойников. Все сходится. Но вот вопрос. Сейчас на земле 5 миллиардов жильцов. Откуда профессор возьмет остальные 115 для изготовления покойников?
Выхода нет. Надо быстрей плодиться. Иначе профессору Ферфлюхтешвайну — хана. Но вот беда. Даже 5 миллиардов созревших жильцов, то есть 2,5 миллиарда пар, упорным трудом могут произвести примерно лишь 20 миллиардов детей, способных быть убитыми. А где взять остальные 100 миллиардов детей для той же цели? Маркс называл такие дела «Профессорский кретинизм».
Дорогой дядя!
Чистая комната. Бесконечное бессолнечное небо в заводском окне. Стол накрыт зеленой тканью. Все же как-то волнуюсь.
- Покурить бы, — говорю. — Умираю.
Кто-то приносит хрустальную пепельницу. Я достаю «Беломор».
- Отдохните минут десять, — говорит женщина-организатор, — … пока соберутся.
Все время в этой поездке возникают незнакомые мне люди. Каждый что-то организует на своем этапе и участке. Ни имен не знаю, ни должностей. Но все это идет без суеты, негромко и приветливо. А при моей склонности расположиться и покалякать о том, о сем, им, наверно, приходится сдерживаться. Но я уже давно ничего больше не умею, кроме как залечь и писать, потом листы на пол, потом собирать и перепечатывать или, если зацепиться случаем за кого-то, то сесть, и курить, и калякать. Сидим. Калякаем.
- У меня только одна просьба, — говорю. — Пусть кто-нибудь о чем-нибудь спросит. Я на любой вопрос могу отвечать сутки. А докладчик я никакой.
В дверь кто-то заглядывает.
- Наши уже собрались, — говорит женщина-организатор.
- Ну, поехали… — говорю.
А сам вижу, у нее в руках моя книжка недавняя, с золотыми буквами, зелененькая. Ее делали в «Молодой гвардии» четыре замечательные женщины. Две из них — вели книжку, а меня не вели, и ноги мне не переставляли, и не учили ходить сначала левой, потом правой, и я никогда ни о чем их не умолял. Настоящие редакторы. Как говорится, «от бога». А две — терпели мою болтовню, — недавно узнал, что одна ушла на пенсию. Видимо, все же замучил, трепач несчастный. Кланяюсь им низко, в пояс, до земли. «До земли» — это, конечно, метафора, потому что я даже на школьной физзарядке до земли не дотягивался и вызывал презрение у гимнастов и даже некоторую зависть, поскольку, как ни странно, из-за этого ко мне хорошо относились гимнастки. Нина Сергеевна, Зоя Николаевна, Нина Петровна, Александра Васильевна, помните, как вы делали книжку, наполовину в стихах про Леонардо да Винчи, который брел по дороге через Хаос? Думаете, я забыл? (Дать сноски!)
В длинный зал с заводскими окнами до потолка я вошел со своей посудой — нес любимую пепельницу с королевским окурком. Так мы и вошли вчетвером: женщина-организатор, корреспондентка, я и пепельница. За столик на маленькой сцене усадили меня и корреспондентку.