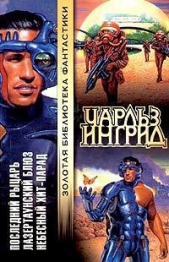Последний солдат империи

Последний солдат империи читать книгу онлайн
Александр Проханов говорит о том, что считает себя советским человеком. Вся его жизнь прошла в Советском Союзе, который он наблюдал в годы его расцвета и катастрофы. Здесь сформировалась его философия - солдата империи. Проханов рассказывает о своем детстве, отрочестве и о мистической встрече, которая произошла, когда он был школьником.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Белосельцев кричал. Его крик уносился ветром, рассеивался над ледяным океаном, над каменной тундрой, улетал с земли вместе с последним теплом. Доска с письменами медленно возвращалась обратно, прибивалась к камням. Льдистый, мертвенный свет играл на лице Зампреда. Он молчал, не слушал Белосельцева. Его пальцы снова гладили мокрую доску, искали на ней письмена. В море, среди волн, черное, стеклянно-блестящее, похожее на подводную лодку, всплывало огромное ухо. Слушало крик Белосельцева.
Часть третья. ГИБЕЛЬ КРАСНЫХ БОГОВ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
В самолете по дороге в Москву, среди рева турбин, металлического трепета, блуждающего ленивого солнца Белосельцеву приснился сон. Будто он присутствует на концерте танцевального ансамбля Игоря Моисеева. Маэстро, в атласном трико, с обтянутыми мускулистыми ляжками, лысый, сухой, выносится на сцену. Вертится волчком, встает на пуанты, стремительный, блистательный. Вслед за ним выплывают русские девушки в кокошниках, сарафанах, с длинными косами. Струятся, как по воде, волнуя подолы, обращая в зал молодые свежие лица. Но на лицах — не улыбка, не милые ямочки, а неутешное горе, слезы, рыдания. Следом грузинские танцоры, лихие, стремительные, плещут рукавами, трясут папахами, вонзают в пол заостренные сапоги. Но вместо яростных кликов, молодецких сверкающих взоров — слезы, умоляющие взгляды, неутешная тоска и печаль. Узбекские танцовщицы, в радужных шелках, с чувственными животами, под грохот гулкого бубна, под рев воздетых труб, плещут браслетами, трясут монистами. Но вместо кокетливых подмигиваний и пленительных восточных улыбок, — плач, стенания, неудержимые слезы. И все, кто ни выходит на сцену, — украинские усачи в шитых рубахах, выделывающие лихой гопак, белорусы в шароварах, танцующие под жалейки и дудки, киргизы в остроконечных шляпах из тонкой шерсти, — стенают и плачут, протягивают руки в одну сторону; кого-то умоляют, упрашивают. От них по пыльной дороге удаляется танковая колонна. Видна корма последнего танка, захлестанный буксирный трос, синяя гарь из двигателя. Белосельцев бежит за танком среди тюбетеек, папах и кокошников. Из танкового люка в ребристом шлеме появляется танкист с пыльным усталым лицом. Что-то говорит, нажимая тангенту. Белосельцев узнает в нем полковника Птицу, которому Главком подарил часы. Полковник говорит из люка: «Армия уходит от вас. Вы не оправдали доверие армии».
Белосельцев проснулся. Турбина сбросила обороты. Самолет шел на снижение. Стакан с нарзаном дребезжал в металлическом кольце.
С аэродрома одна за другой стремительно уносились «Волги» с властными пассажирами, каждый из которых начинал нажимать кнопки радиотелефонов, связываясь с министерствами, штабами, отделами ЦК, узнавая новости, возвещая о своем появлении. Белосельцев, храня тревогу странного сна, молча смотрел, как приближается белый город. Словно вдали его поджидала толпа санитаров в белых халатах. Сошел на Пушкинской площади, отпуская серебристую, освободившуюся от него машину.
Площадь поразила его неузнаваемым видом. Пустая, без машин, с голым жарким асфальтом, окруженная милицией, с одиноким бронзовым Пушкиным, вокруг которого воздух дрожал металлическим блеском, словно пропитанный грозовым электричеством.
У края тротуара стоял неряшливый голубоглазый толстяк в спортивных штанах с огромным животом, он ел сочный помидор, вгрызаясь в него лошадиными зубами.
— Что происходит? — спросил у него Белосельцев.
— Народ хотит гражданскую войну учинить. Две демонстрации одна на другую прут. Коммунисты с демократами хочут морды друг другу побить. Крови дурной в народе скопилось, вот что, — и он сочно хлюпнул помидором, выдавив себе на живот красную гущу.
Белосельцев всматривался в улицу Горького, в оба ее конца, — вверх, к площади Маяковского, и вниз, к Манежу. В обоих концах что-то дымилось, туманилось, чадно дышало, металлическое, едкое, словно испарялась кислота, разъедая фасады зданий, фонарные столы, троллейбусные провода. В воздухе пахло железной гарью, как в жерле вулкана, и в горле начинало першить.
Белосельцев двинулся вверх, к «Маяковке», просочившись сквозь цепь солдат, — белесые сдвинутые щиты, зеленые каски, черные гуттаперчевые дубинки. Солдаты нервничали, щурили липкие от пота глаза, звякали щитами, похожими на алюминиевые черепа. Медленно катила милицейская «Волга» с фиолетовой вспышкой, будто в чьей- то руке, окруженный лиловым туманом, ошалело мигал вырванный глаз. Белосельцев торопился навстречу туманному месиву, которое медленно надвигалось, закупорив улицу. Словно поршень, выдавливало перед собой плотный сгусток энергии.
Что-то отделилось от общей массы. Стало быстро приближаться. Превратилось в огромного горбатого зайца, который отталкивался от асфальта одновременно двумя задними лапами, скрючив у груди передние, недоразвитые. Пугливыми скачками пронесся мимо магазина «Спорт», оборачивая назад испуганную голову с прижатыми ушами, и Белосельцев с изумлением узнал Академика. Его мучительную улыбку страдающего дегенерата, водянистые, исполненные ужаса глаза, которые искали источник постоянного, неустранимого при жизни страдания. Этот источник не замедлил себя обнаружить. Второй заяц, еще более горбатый, чем первый, с линялым истертым мехом на сильных бедрах, проскакал вдогон Академику. Это была его неутомимая преследовательница, неотступная попечительница, его нежная и властная супруга. В ее заячьих губах дымилась тонкая сигарета с отлетающим синим дымком. В маленьких лапках блестела золотая зажигалка. Она вынула на бегу сигарету: «Андрей, не столь быстро, пожалуйста. Тебе Чазов запретил резкие движения!» И оба, цокая когтями по проезжей части, ускакали, — то ли зайцы подмосковных лесов, то ли кенгуру из далекой Австралии.
Из неразличимого, шевелящегося множества, из туманной мглы, как если бы горели в Шатуре торфяники, возникла белая ослица. Маленькая, тонконогая, с тощими боками, она шла прямо по осевой линии, так что казалось, эта белая линия наносится самой ослицей, вытекает из нее, застывая на голубоватом асфальте. Верхом, тяжелый и грузный, в черном смокинге и галстуке-бабочке, ехал известный киргизский писатель, назначенный недавно послом в Люксембург. В одной руке он держал глиняную миску с кумысом, а в другой нарядный плакатик с надписью: «Европа — наш общий дом». Иногда он наклонялся и поил ослицу кумысом, и тогда разделительная линия становилось белее, а ослица благодарно целовала писателю руку и просила: «Возьми меня в Европу, Чингиз. Я мечтаю увидеть Париж». Они исчезли у Концертного зала имени Чайковского, и Белосельцеву показалось, что время вдруг остановилось, и этот проживаемый им длинный день длится дольше века.
Улица недолго оставалась пустой. На ней возникло нечто непомерно высокое, колеблемое, усыпанное множеством разноцветных огоньков. На ходулях, ловко балансируя, возвышаясь до уровня уличных фонарей, передвигался известный священник, лидер демократических сил. В черной развевающейся рясе, с грозным клином бороды, колючими бровями, маленькими рожками, торчащими из густой шевелюры. Все подмечающие глазки яростно зыркали по сторонам. От сильных движений крест на груди качался, опрокинутый вершиной вниз. Ходули были обвиты гирляндами мигающих фонариков, два рубиновых мерцающих огонька украшали рожки. Священник, поровнявшись с кафе, из которого выглядывали хорошенькие официантки, откашлялся и, глядя на них сверху вниз, запел: «Смелей, православные, в ногу, духом окрепнем в борьбе! В царство свободу дорогу грудью проложим себе...» Удалялся, стараясь не задеть проводов. Достиг перегораживающей цепи солдат, перешагнул через них и скрылся в неразличимом тумане.
Дама на тротуаре, с измученным голубоватым лицом, надеясь на понимание Белосельцева, произнесла:
― Он один искупает все наше богоотступное духовенство. На проповедях он просто неотразим...
Между тем, то, что казалось слипшейся, бесформенной массой, явило себя в виде слитной колонны, запрудившей улицу. Колонна мерно наступала, как лава, съедая пустое пространство, клокотала, бурлила, издавала гулы, источала запахи раскаленной окалины, гнала перед собой вал плотного, сжатого воздуха.