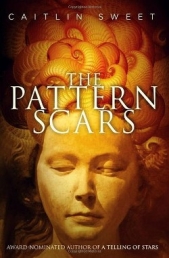Культура шрамов

Культура шрамов читать книгу онлайн
Тони Дэвидсон (р. 1965) — один из самых неоднозначных и провокационных современных писателей Шотландии. Роман «Культура шрамов» (Scar Culture, 1999) — дебют Дэвидсона в литературе — сразу же был признан критиками лучшей книгой года. Дэвидсон блестяще изображает больной мир и его влияние на души людей. «Учетной записью чистого зла» была названа эта книга газетой «Дэйли телеграф». Но прежде чем лечить болезнь, нужно поставить диагноз, что Дэвидсон и пытается сделать в своем романе.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Такой она была и сейчас — не избегала глядеть мне в глаза, а сцепляла свой взгляд с моим, с таким выражением, какое она иногда принимала во время наших игр в подвале дома.
Я не оказывал сопротивления, когда Щелчок связывал мои запястья проволокой. В средотерапии задействованному специалисту иногда необходимо подвергаться суровым испытаниям, если пациент, привыкнув к воссозданному окружению, вдруг выкажет буйное поведение. Для специалиста это такой момент, когда нужно принимать быстрые и четкие решения, не упуская из виду ни проводящегося лечения пациента, ни собственной личной безопасности.
Щелчок покачал головой из стороны в сторону, и грива черных как смоль волос упала ему на лицо. Джози, стоя у дальней стены, продолжала в упор на меня смотреть. Закрыв глаза и начав представлять ее себе такой, какой она была дома, в ванной, в постели, где угодно, только не в этом зале, я сумел улыбнуться, но на ее губах улыбки не вызвал. Открыв глаза, я обнаружил, что она по-прежнему не сводит с меня глаз; в руках у нее был кусок проволоки, через который она скакала, но не так, как скачут дети, а со сосредоточенностью взрослого, пробующего воду, выжидающего время.
Щелчок разбирал фургон по частям, проволока за проволокой; разноцветные фонарики оказались свалены в кучу на полу — костер из красных, синих и зеленых огоньков. Он действовал осторожно, окна вынимал целиком, дверь — вместе с петлями, и все складывал на пол. Вскоре постройка Клинка и Синт превратилась в собрание двухмерных проволочных скульптур, лежащих на полу. Хотя на некоторых этапах средотерапии роль специалиста по умственным расстройствам может показаться неподобающе ничтожной, поскольку он нарочито ни во что не вмешивается, вполне допустимо, чтобы он (или она) задавал вопросы или делал утверждения, относящиеся к личной истории пациента.
— Понимаете ли вы, где находитесь?
— Понимаете ли, почему вы здесь?
— Понимаете ли вы, что никто не желает вам вреда, что вы — среди друзей, которые хотят вам помочь?
Щелчок не остался равнодушен к вопросам. У него затряслась голова, длинные черные волосы взлетали вверх и падали; движения тела сделались более оживленными. Он не говорил ни слова, но, как уже втолковывал мне Питерсон, общение ведь не сводится к одним только словам. Он гримасничал, морща бледную кожу на выступающих скулах, и все время энергично мотал головой. Без единого стона или хмыка он выворачивал и сдирал проволочную крышу фургона.
— Понимаете ли вы, зачем я сделал для вас эту модель?
— Понимаете ли вы, зачем разбираете ее?
— Вам очень неприятно находиться среди предметов, которые напоминают вам о родителях?
Внезапно Щелчок свалил остатки проволоки на пол и нагнулся, чтобы сгрести в охапку разорванные фотографии, растерзанные страницы текста. Целенаправленно, с той умело сдерживаемой, обуздываемой злостью, которую мне доводилось наблюдать у всякого рода социопатов в разные годы, он приблизился ко мне и осыпал меня клочками. Обрывки его жизни падали на разные части моего тела. Вот полетела ветка дерева, вот рябь на воде, вот вход в туннель, а вот текст — оборванные фразы и слова: но головокамера может лгать… бессильно барахтаясь… по запаху, исходившему от ее дыхания… Я закивал и улыбнулся.
— Я понимаю, почему вы это сделали. Я вижу, на то есть причины. Вы злитесь на себя самого, на свое положение, и вполне естественно, что во мне вы видите врага. Но я не враг вам, Щелчок, честное слово, я вовсе не враг вам.
Я почувствовал, как где-то в горле зарождается смешок. Я слышал собственный голос, слышал свои слова и восхищался тем, как легко вытекает из меня та исполненная самобичевания дребедень, которой я вдоволь наслушался, будучи студентом-психо-лохом; основной профессиональный этос сводился там к тому, что настоящий специалист по умственным расстройствам должен делать все возможное, жертвовать всем ради блага пациента. Ты только средство, Сэд, ты только транспорт на пути пациента к выздоровлению.
По моим ляжкам сыпались обрывки фургонной жизни.
Выход, сидящая в фургоне, глаза занавешены челкой темных волос…
У меня во рту были волосы.… отцовские волосы…
Фотоснимок полости Щелчкова рта.
Но взгляд никуда не устремлен, во всяком случае, мне не видно, куда…
Кусок картинки — море, отлив в отдалении.
Моя головокамера выхватила ее силуэт на фоне солнца.…
Отпиленный кончик Щелчкова возбужденного члена.
Автофургон — ни для кого не пристанище.…
Щелчок схватился за одну из боковых частей фургона и поставил его у меня за спиной. Джози, не спросив моего позволения, достала откуда-то тетрадку с ручкой и принялась писать, время от времени поглядывая на меня.
«Что это ты пишешь, Джози?»
Никакого ответа — сколько бы раз я мысленно ни выкрикивал этот вопрос. Когда она, хлопнув дверью, уходила из родительского дома, то даже не оглянулась. Я подошел к окну, чтобы поймать ее прощальный взгляд. Но его не было. Наши взгляды так и не встретились сквозь залитое каплями дождя оконное стекло, попытки прощального примирения не состоялось. Она ушла, оставив позади себя лед. Оставив лед во мне. Мать заскулила за дверью. Отец стоически налил себе порцию виски из графина. Я заперся у себя в комнате и не выходил несколько дней. А мне-то в ту пору казалось, что у нас самая обычная семья. Я был разочарован.
Дверь зала настежь распахнулась. Послышались гулкие шаги.
Неподходящее время для визита кого-нибудь из больничного контингента. Я уже слышал их голоса, дрожащие от недоверия и подозрительности. Вот это ты и называешь тесным взаимодействием с пациентом? Мы бы сказали, что ты вступил, пожалуй, в чересчур тесный контакт с ним. Я знал: им не понравится то, что они увидят. Может, они и вспомнят кое-какие идеи касательно среды и терапии из отдаленного учебного курса, но для них единственным приемлемым воплощением среды для исцеления умственных расстройств было совсем другое — больничные стены, белее белого, удобные комнатки и уютные гостиные, обставленные стульями в стиле 60-х годов, и разбросанные повсюду пятна коричневого и бежевого. Словом, они приняли бы только то, с чем работают сами. Все остальное покажется им слишком непонятным или слишком радикальным. Разные терапии возникают и исчезают, Сэд, а то, что нужно пациенту, то, что нужно всем нам, — это постоянство идей, некий набор правил и действий, за который всегда можно ухватиться в трудные времена.
Я собрался с духом, приготовился убедительно объяснять, почему утратил (как может показаться) контроль над одним из своих пациентов, тогда как второй, находившийся в другой части зала, явно не справляется с ситуацией как нужно. Но потом я расслышал голоса: это был не гнусавый выговор медиков и не бубнящий гул психо-лохов, а истерические выкрики Синт и угрожающий бас Клинка.
Значит, пациенты Душилища выломали дверь.
Послушай, Сэд, у меня было видение: мне примерещился газетный заголовок, крупным шрифтом набранный на первой полосе:
Истина же, как это часто случается, намного проще. Я нашел Томного возле груды мебели, которую он вынес из хижины. Столы, стулья, кровати, раковины, тарелки, миски, полотенца — все, что он вытащил из дома, вырвал или выломал, — все это теперь представляло собой огромную свалку на дне оврага возле хижины. В воздухе сильно пахло бензином, и я заметил у него в руке металлическое ведро. Мне не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что у Томного на уме, и я понял: мне придется отговаривать его от задуманного, уговаривать, на какой бы стадии он ни находился; взывать к его лучшим сторонам, убеждать, что подобный акт преднамеренного вредительства не сулит ему (или мне) ничего хорошего. Но, понимаешь, в том-то и штука, что я не смог; я не проронил ни слова; у меня в голове созрела целая речь о том, какой вред окажет подобный поступок на его шансы успешной реабилитации, о том, что пойдет насмарку возможность сделаться полноценной личностью и так далее, и так далее, но ничего из этого не вышло. Речь так и осталась у меня в уме, не добравшись до рта, а оттуда — до ушей Томного. Было такое ощущение, будто мне впервые в жизни нечего сказать, а между тем — что меня бесило — я точно знал: сказать есть что. Конечно, это кислота виновата. Под ЛСД я всегда как-то уходил в себя, борясь с виденьями и буйными полетами мысли. Когда-то, в далекие беспечные и яркие деньки, я уходил в себя, а вокруг меня все весело скакали, прыгали с крыш или вдруг находили множество причин возникновения Вселенной. Все — только не я. Я был бревнее бревна.
Но, боже мой, Сэд, дальше дело пошло хуже, дальше произошло нечто такое, от чего у меня чуть сердечный приступ не приключился, ноги сразу сделались ватными, а от будущего остался один нолик. Увидев, что я приближаюсь, он вылил содержимое ведра себе на голову, закрыв глаза, будто стоя под успокаивающим горячим душем. Раскрыв их снова, он только посмотрел на меня и улыбнулся — причем это не было улыбкой психа. Я-то знаю разницу между довольной улыбкой и такой улыбкой, которая ясно говорит: «Сейчас я убью тебя, потому что мне так хочется». Господи, я хорошо знаю эту разницу. Но он, Сэд, он улыбался сладчайшей из сладчайших улыбок. Когда я подошел к нему поближе, он выплеснул на меня остатки содержимого из ведра, а я, должно быть, все еще продолжал двигаться в замедленном темпе, потому что, прежде чем я успел бы вскрикнуть или оттолкнуть его, в руке Томного уже мелькнула зажигалка, и он занес ее над нашими головами. Все, что мне оставалось, — это закрыть глаза. Боже мой, Сэд, теперь я понимаю, что никуда не гожусь в кризисных ситуациях. Я замираю хуже пресловутого оленя, ослепленного фарами. Испуганное животное. Но, знаешь, он чиркнул зажигалкой — и ничего не произошло. Можешь, хрен побери, себе вообразить, как я стою ни жив ни мертв и отчаянно силюсь задрожать, потому что от ужаса чуть в штаны не наделал, — и ничего не происходит. Я уже мысленно превратился в живой факел, в жертву ни за что. Тут он меня отталкивает, направляется к другой стороне свалки, подбирает еще одно ведро и выливает его содержимое на нашу бревенчатую избушку. И, разумеется, когда он чиркает зажигалкой на этот раз, все вспыхивает, и жар от пламени чуть не лишает меня сознания; я гляжу, как над его головой взмывают красно-желтые языки. Мне казалось, что мое сердце пустилось наутек, поддавшись какому-то катастрофичному ритму, а Томный тем временем совершенно хладнокровно обходит костер, возвращается ко мне и начинает сушить одежду у огня, вытягивает руки, причем кажется, что ладони у него раскалены. Мне остается лишь смотреть на него во все глаза, и неожиданно дело «икс-21», или Томный, предстает передо мной в новом свете — в свете скачущих красно-желтых, пламенно-оранжевых огоньков. А потом я впервые замечаю, что от ржавого крана, торчащего из земли возле костра, тянется зеленый шланг. Я нюхаю свою одежду и чувствую только запах собственного пота. Томный подходит ко мне, все с той же неуловимой, тонкогубой усмешкой на юном лице, и говорит: «Хорошая кислота».