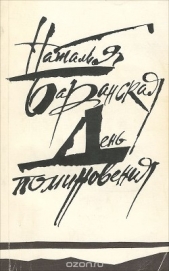День поминовения
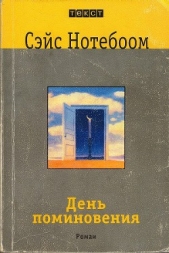
День поминовения читать книгу онлайн
Действие романа происходит в 90-х годах XX века в Берлине — столице государства, пережившего за минувшее столетие столько потрясений. Их отголоски так же явственно слышатся в современной жизни берлинцев, как и отголоски душевных драм главных героев книги — Артура Даане и Элик Оранье, — в их страстных и непростых взаимоотношениях. Философия и вера, история и память, любовь и одиночество — предмет повествования одного из самых знаменитых современных нидерландских писателей Сэйса Нотебоома. На русском языке издается впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Небольшой порез, — сказал он.
— Тебе повезло. Этот тип размахивал разбитой рюмкой. Мог попасть тебе в глаз.
Правый глаз. Одноглазый кинооператор. Но ведь ничего не произошло.
— Зачем ты ходишь в этот подвал?
— Мне нравится, что меня там терпеть не могут. Ты понял слова песни?
Нет, слов он не понял, но слышал, какой агрессивной была музыка.
— А ты что, разбираешь текст? Вроде бы ты не так уж сильна в немецком.
В примитивном, враждебном рычании, звучавшем в подвале, некоторых слов было почти не различить.
— Для этого моего немецкого хватило. Особенно после того, как мне потрудились объяснить.
— Они, конечно, были рады, что тебе так интересно.
— Вот-вот. Но они меня никогда не трогали.
— До поры до времени.
— Потому что до сих пор я приходила одна.
— Выходит, я виноват.
— Чушь. Это я их спровоцировала.
— Но зачем ты туда ходишь?
— Первый раз — из любопытства. А потом — чтобы бросить вызов. Я люблю музыку, которая ко мне враждебна. Особенно если под нее можно танцевать.
— Танцевать? Это было больше похоже на приступ бешенства.
Она остановилась и посмотрела ему в лицо.
— Кажется, до тебя что-то начинает доходить, — сказала она.
Он не был уверен, рад ли этому, и ничего не ответил.
Милаштрассе, Гаудиштрассе, названия казались знакомыми, но он не помнил откуда. Щербатые дома, некрашеные оконные рамы, облупившаяся штукатурка. Вот они вышли на открытое пространство, где стояло нечто вроде огромного спорткомплекса. Внутри горел тусклый свет, видимо, днем здесь играли в гандбол. Перед большими окнами стояли три алюминиевых флагштока, в которых жалобно завывал ветер. Теперь он понял, где они. Она повернула направо и прошла через садик. Здесь было темно, хоть глаз выколи, она явно хорошо знала дорогу. Фалькплатц. Когда они сажали здесь деревья, спорткомплекса еще не было. Ему стало интересно, подросли ли деревья, но в темноте не смог разглядеть.
Она перешла улицу, свернула за угол, открыла большую тяжелую дверь. В коридоре, по которому они шли, пахло мокрыми газетами, плесенью, он не мог понять, чем именно, какой-то запах, которого он уже никогда не забудет. Удивительно, размышлял он потом, что из всех впечатлений, картинок, звуков той богатой событиями ночи первым делом будет вспоминаться именно запах, затхлый, гнилостный, казалось, это разлагается само время. Газетам хотелось о чем-то заявить, напомнить, рассказать о том, что происходило в этом мире раньше, но влага склеила их страницы, смазала буквы, и они превратились в свою противоположность: уже не удерживали события в памяти, а принимали участие в Великом Забвении, опережали его, репортажи, дискуссии, критические статьи — все стало серой мокрой кашицей, источавшей запах порчи.
Вверх по лестнице, там дверь с облупившейся краской и надпись по-голландски: «ВХОД ВОСПРЕЩЕН». На полу книги, разложенные кружком, посередине пустое пространство. Она принялась их подбирать, чтобы можно было пройти. Она могла бы сказать то, что обычно говорят в таких случаях — прости, у меня тут кавардак, здесь так тесно, вот какая у меня конура, — но ничего не сказала, повесила свое пальто в шкаф, жестом указала на его пальто, а когда Артур разделся, аккуратно сложила его и положила в угол у двери.
Хочешь кофе?
Этой формулы вежливости она тоже не произнесла и не сказала, что никого еще никогда к себе не приглашала. Они стояли друг против друга, он впервые обнаружил, что два человека могут вести себя настолько беззвучно. Во всем, что происходило, была неотвратимая точность, продолжительность молчания отсчитывалась подобно паузе в балете, оно должно было длиться до тех пор, пока не станет невыносимым, только тогда она поднимет руку, прикоснется к его одежде и слегка за нее потянет — жест ничего не значащий, но теперь они оба могут одновременно раздеться, шорох ткани, падающей на пол, шорох ткани, которую складывают в несколько раз. Она легла, посмотрела на него и протянула к нему руки. Стыдливость, слово, которое произнес Виктор в тот раз в Шарлоттенбурге. Вот это и называется стыдливость. Или внутренняя дрожь, что то же самое. Он знал, что происходящее в любом случае не останется безнаказанным, что эта женщина приняла какое-то решение, что она перестала его избегать, перестала от него прятаться, что она уже не обрушивается на него, как прежде, что он находится в опасной зоне, где ему следует двигаться так, точно его здесь нет, где он ежесекундно должен помнить, что его пустили сюда ненадолго, что он здесь присутствует только для того, чтобы она могла отсутствовать, что она стремится к столь полной степени забвения, что он сможет вступить в эту зону только тогда, когда настанет искомое отсутствие, когда тела в комнате забудут о живущих в них личностях, пока неведомый мужчина не поднимет голову с плеча неведомой женщины и не посмотрит сверху вниз на ее лицо, повернутое к стене, и не увидит на нем слезы, совсем немного слез, и блестящий шрам, и еще он видит тело, сжимающееся в комок, словно оно хочет заснуть навсегда. Но, проснувшись утром, он обнаруживает, что рядом никого нет, серый берлинский свет проникает в помещение через окна без занавесок и освещает тишину, книги, вытянутую наподобие церкви комнату с блеклыми обоями. Он ждет, что она вернется, но потом понимает, что этого не произойдет. Он встает, большой и голый, точно зверь на враждебной ему территории. Моется над раковиной, малейший производимый им шум невыносим. Здесь все под запретом. Тем не менее он подбирает с пола книжку, рассматривает ее почерк на полях — именно такой, как он ожидал, переплетенная металлическая проволока, похожая на ее волосы, линии, перечеркивающие слова, резкие и острые, как бритва, как лезвие меча. Даты, имена, фразы, закрывающие ему вход в этот мир, который он и сам спешит покинуть. Последнее, что он видит, это фотография старухи, стоящая на подоконнике у кровати, очень голландские черты лица, строгий взгляд. Кинооператор до мозга костей, движение вниз по лестнице он воспринимает как просмотр пленки в обратную сторону.
— Но тогда тебе надо спускаться задом наперед.
Голос Эрны. Они несколько раз обсуждали эту тему. Эрна была против прошлого, более чем кто-либо из его знакомых.
— Что ты там забыл? Один раз ты там уже побывал. Если туда постоянно стремиться, то здесь тебя совсем не останется.
— Но я не могу отрицать прошлое.
— Никто тебя и не просит. Но ты не знаешь меры, ты вечно норовишь превратить прошлое в настоящее. Перемешиваешь все временные слои. Так ты нигде не будешь присутствовать на сто процентов.
Он знал, что ему снова придется идти через запах заплесневевших газет, и поспешил поскорее миновать их. На улице огляделся, нет ли се поблизости, попытался вспомнить, где они проходили накануне. Фалькплатц. На каком-то углу он выпил чашку немыслимого кофе, а потом направился к спорткомплексу, где сейчас играли в гандбол молодые ребята. Прижавшись лицом к стеклу большого окна, он какое-то время наблюдал, как они бегают и прыгают, размышляя, сколько же им на самом деле лет. Тринадцать-четырнадцать, не больше. Когда пала стена, они были совсем маленькие, да и этого спорткомплекса здесь не было тогда и в помине. Следовательно, это первое поколение новых немцев. Он видел, как они смеются и прыгают за мячом, как, завладев им, бегут к чужим воротам или врезаются в толпу других игроков, тут были и мальчики, и девочки, он видел, как они свободно бегают или толкаются, и подумал о Томасе, как бы тот вел себя на площадке, а потом повернулся и пошел в сторону парка. Посаженные деревья не радовали глаз, людям жилось здесь явно лучше. Маленькие, хилые деревца, посаженные слишком густо, а рядом, наоборот, пустые места, разоблаченная утопия; пожалуй, он единственный помнил, как сажали этот парк. В тот день он заснял все на пленку, сейчас было бы неплохо прокрутить ее в обратную сторону хотя бы потому, что результат тогдашних стараний оказался таким убогим, пруд с украшением из поставленных один на другой кубов, оскорбительно невинный газон там, где раньше была полоса смерти. Он пошел по Шведтерштрассе, а потом спустился в темный, еще недавно недоступный Глейм-туннель. Здесь горело электричество цвета газовых фонарей, темнота, булыжники, сырость, здесь шел еще 1870 год, пещера с крысами, он снова смог дышать, лишь выйдя на свежий воздух. А теперь — как можно скорее домой.