Видит Бог
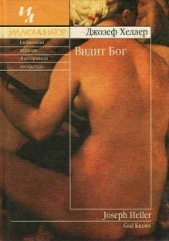
Видит Бог читать книгу онлайн
«Видит Бог» — это «воспоминания» семидесятипятилетнего царя Давида, уже прикованного к постели, но не утратившего ни памяти, ни остроты ума, ни чувства юмора. Точно следуя канве описанных в Ветхом Завете событий, Давид тем не менее пересказывает их по-своему — как историю его личных отношений с Богом. Книга в целом — это и исторический, и авантюрный роман, и история любви, и рассуждение о сущности жизни и смерти.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Но в Иудее нет воров и разбойников, — поначалу не уступали они.
— Уже есть.
Я произносил эти слова без улыбки, хмуро уставясь прямо в глаза каждому землевладельцу, к которому обращался. Так что, в общем и целом, я не вижу ничего удивительного в том, что люди из Зифа, лежащего в моей родной Иудее, нередко приходили к Саулу в Гиву с доносами насчет того, где я укрываюсь, и вызывались предать меня в руки царя, коли он пойдет на меня. Если я и выражал порою обиду, то скорее притворную.
Непочтительный отказ я получил только от толстого недотепы Навала, мужа моей бесценной Авигеи, что и заставило меня решиться на самые крутые поступки, которые едва-едва успела предотвратить проворная дипломатия этой поразительной дамы. Авигея была женщина весьма умная и красивая лицом. Такая жена у Навала — что золотое кольцо в носу у свиньи. И разве я не обратился к нему со всевозможной учтивостью? Я послал к нему десять отроков с вежливым ходатайством и скромным напоминанием о том, что мы не обижали ни тех, кто стрижет овец его, ни пастухов, и ничего у них не пропало во все время нашего пребывания на Кармиле. Пастухи его могли бы подтвердить, что я целый год стойко защищал их от нас.
Но Навал был законченным хамом, он грубо отверг просьбу моих посланцев поделиться с нами малой толикой благ, коими мы так хотели позволить ему мирно наслаждаться и впредь. Навал был известен всякому как человек жестокий и злой нравом, толстопузый обжора и пьяница, не понимавший да и не заслуживавший такой замечательной жены, какой была женщина, что выехала нам навстречу на следующий день, когда я с четырьмя сотнями воинов двигался скорым маршем, намереваясь убить не только Навала, но и всякого, кто живет в доме его.
— Кто этот Давид, чтобы я был чем-то обязан ему? — опрометчиво высмеял он моих людей в присутствии собственных своих слуг — ему, видите ли, не терпелось вернуться к обжорству и пьянству, которым он как раз перед тем предавался без всякого удержу на празднике стрижения овец. Он гоготал моим людям в лицо да еще и пальцами прищелкивал у них под носами. — Кто такой сын Иессеев? Разве он царь или хотя бы царский слуга, чтобы я угождал ему? Фиг ему, нет, даже не фиг, и фиги не получит от меня ваш Давид. Га-га-га!
Видит Бог, когда мои посыльные рассказали мне, как оскорбительно отвергли мою скромную просьбу, я распалился гневом. Любое унижение посланцев моих всегда было для меня непереносимо. Когда Аннон, сын Нааса Аммонитского, обесчестил людей, мирно посланных мною, чтобы утешить его о покойном отце его, я места себе не находил, пока не добился отмщения. Он обрил каждому из присланных мною половину бороды, и обрезал одежды их наполовину, до чресл, и лишь после того позволил им, голозадым, вернуться ко мне. Я тогда начал войну против всех городов аммонитских, и воевал с ними год за годом, и не успокоился, пока не овладел последней их крепостью и не положил всех людей, бывших в них, под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и не бросил их в обжигательные печи, и не взял венец царя их с головы его, — а в нем было золота талант и драгоценный камень, — и не возложил его на свою голову. И даже после того я успокоения не ощутил. Все это случилось гораздо позже, когда я уже стал могучим царем, но решение отмстить Навалу за обиду, отмстить единственным известным мне в ту пору способом питалось гневом не менее монументальным, так что я принялся осыпать людей моих приказами о приготовлениях к бою.
— Не входите сегодня ночью к женам вашим, — первым делом воскликнул я.
— Мы что, воевать собираемся?
— Да, против Навала из Кармила.
— Без булды?
— Безо всякой булды! Чтобы все у меня были чистыми! Опояшьтесь каждый мечом своим!
Я не шутил. На рассвете я и сам опоясался мечом и выступил на Кармил во главе четырехсот человек, оставив двухсот при обозе.
Хорошо, что я так и не добрался до Кармила. Хорошо, что Авигея, извещенная одним из слуг мужа ее об опасности, которую муж навлек на них безо всякой нужды, поспешила выправить дело, загладить грех, совершенный им против меня. Никогда не встречал я женщины более распорядительной. Она взяла двести хлебов, и два меха с вином, и пять овец приготовленных, и пять мер сушеных зерен, и сто связок изюму, и двести связок смокв, и навьючила на ослов. Мужу своему, Навалу, она о том, что сделала, не сказала ни слова и выехала нам навстречу с пятью хорошенькими девицами, состоявшими при ней в услужении.
Я рад тому, что она так поступила, и не по одной только причине. В конечном итоге, если бы я исполнил мое решение не оставить в доме Навала никого, мочащегося к стене, это вряд ли сослужило бы мне хорошую службу.
Двигались мы пешком. Забудьте о лошадях — у нас ни единой не было, как не было в наших землях никого, способного ездить на них. Авигея нарумянила щеки, накрасила губы, подвела глаза, расчесала и уложила свои темные волосы. Она облачилась в платье и в мантию из блистающего пурпура пустыни. Увидев на фоне яркого неба вереницу ослов с провизией, спускавшуюся к нам по извилинам горы, я приказал моим людям остановиться. Я не знал, кто она, пока Авигея не приблизилась, не спешилась и не представилась.
Прежде мы с ней не встречались. Ей и не снилось, какой я красивый. И я не знал, как прекрасна она. Думаю, в ту минуту на дороге в Кармил, когда она, одолев последние несколько ярдов, поспешила сойти с осла и пала перед ногами моими на лицо свое и поклонилась до земли, можно было расслышать даже звук падения булавки на землю.
Она попросила выслушать слова ее и умоляла воздержаться от пролития крови. Раз за разом она взывала ко мне о прощении. Она была старше меня, дорогая моя, и уж конечно проницательнее и свободнее от предрассудков. Стоя предо мной на коленях, она в первые несколько мгновений глядела на меня снизу вверх неотрывным взглядом, выражавшим откровенное обожание. Блеск ее глаз явственно показывал, что она обо мне думает. Расстояние, разделявшее нас, было столь малым, что мы могли бы коснуться друг дружки. Мне все никак не удавалось оторвать взгляд от лица ее. А после от титек. Я чувствовал, как член мой твердеет и поднимается. Авигея тоже это приметила, в чем сама же и призналась мне две недели спустя, когда мы с нею лежали как муж с женой в одном из нескольких добрых овечьей шерсти шатров, которые она взяла с собой в качестве приданого из имения своего незадолго до того почившего мужа. Но, разумеется, она была слишком хорошо воспитана, чтобы хоть чем-то обнаружить в те минуты свою наблюдательность. К тому же Авигея молила тогда о сохранении жизни своей, как и жизней всех домочадцев Навала, о чем она, впрочем, вряд ли могла знать. Десять лет спустя меня во второй раз в жизни поразил, точно гром с ясного неба, такой же оглушающий приступ страстной любви — когда я увидел на крыше стоящего от меня в полуквартале дома ванну, а в ней Вирсавию, которая бесстыдно взирала на меня, омывая с помощью служанки, державшей в руках лазурного цвета кувшин с водою, свое роскошное белое с розовым тело.
Тот не любил, кто сразу не влюбился. Обстоятельства первой нашей встречи с Вирсавией отнюдь не отличались какой-то там картинной романтичностью. Дом у нее был низенький, ветхий, на крыше навален был всякий хлам. В ту пору найти в Иерусалиме хорошее жилье было уже трудновато, и даже на крыше моего дворца некуда было ступить от фиг, фиников, расстеленного для просушки льняного полотна и развешенной на веревках семейной постирушки. Так что успокоительные прогулки по прохладце, на которые я выходил каждый вечер, спасаясь от стоявшей внизу вони и удушающей жары — как и от бессмысленных, непрестанных свар с Мелхолой и, возможно, с несколькими другими моими женами, — мне приходилось совершать, передвигаясь по узким проходам. Что касается жен, то Ахиноама, Мааха и Аггифа были замечательными самочками — они и говорить-то ничего почти не говорили, да и кончины их никто, почитай, не заметил. По Авигее же я тоскую и ныне. Ее я всегда любил. И тем не менее стоило мне увидеть Вирсавию, как рот мой наполнился слюною; она показалась мне сотворенной из сливок и персиков, навершия же крошечных грудок ее окрашены были в цвета лесной земляники и свежей смородины.


























