Только один человек

Только один человек читать книгу онлайн
Гурам Дочанашвили — один из ярких представителей современной грузинской прозы. Ему принадлежат рассказы, повести, романы, эссе. Русскому читателю Г. Дочанашвили знаком по книгам «Там, за горой», «Песня без слов», «Одарю тебя трижды» и др.
В этой книге, как и в прежних, все его произведения объединены общей темой — темой добра, любви, служения искусству. Сюда вошли как ранние произведения писателя, такие, как «Дело», «Человек, который страсть как любил литературу», «Мой Бучута, наш Тереза» и др., так и новые — «Ватерполоо», «И екнуло сердце у Бахвы» и т. д.
В исходной бумажной книге не хватает двух листов - какой-то варвар выдрал. В тексте лакуны отмечены.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вот мы идем, куда только не идем, и тащим, чего только не тащим, приобретаем, чего не приобретаем, но к чему оно все... Жила-была на свете одна мышь, и было у нее видимо-невидимо хорошо припрятанного золота. Бывало, вытащит она его в кои веки раз украдкой на свет божий, с опаской на него полюбуется и снова заховает поглубже в землю. Но пришел срок: мышь померла, как и все другие, и осталось лежать ее золото безо всякой пользы, а если меня спросить, совершенно зря она всю жизнь волновалась, вот так и мы с вами чего-то все возимся, мучаем себя, а стоит ли, спрашивается? Может, и мы тоже только понапрасну портим себе кровь, забивая голову всякой чушью... Выход? — Да ведь и у бедной старушки есть свое диплипито [39]. Мы местные. Чего нам, казалось бы, и хотеть? Бум-трах! — вокруг выросли стены, на калитке изнутри повис до приторности жирный замок, над головой умельца-хвата — потолок, из-под пояса выпирает брюшко. Трах! — в кармане полно деньжат. Это же через головы скольких не отличающихся сметкой простаков перепрыгнули мы, а, парень! Но одно только сомнение все ж таки у нас остается — как бы мы высоко ни подскочили вверх, как бы ни пыжились и ни чванились, не кажемся ли мы на взгляд сверху чуток поменьше. Да и чего на свете не случается...
Но подчас нами овладевает невероятнейшая взыскательность, особливо в отношении других — и чего, мол, это вы мыкаетесь, чего хлопочете, кидаетесь из стороны в сторону, норовя оттяпать побольше; и на что вы тратите ваше дарование, ваш ум и время, теряя в погоне за всякой ерундой то самое ценное, что следовало бы беречь как зеницу ока. Но знайте, вы, не верующие ни в сон, ни в чох, ни птичий грай, что, как бы вы ни лелеяли и ни напитывали свое бренное тело, все равно вас подведет в конце концов ваше многотерпеливое брюхо, так как и оно, как все в мире, тоже изнашивается. Ха, будто бы я сказал какую-то новость... Но что поделаешь, такое напоминание ни для кого из нас не лишне! Так исполать же тебе — хоть не столь уж редкое, но все-таки исключение, — Гайоз Джаши...
Сейчас я объясню, почему:
Гайоз Джаши,
пока другой леденеет нутром, измышляя какую-нибудь пакость, твое вечно стесненное сердце теплеет, наполняется несказанным светом. Вы пишете стихи, к тому же тайком.
Уважаемый Гайоз!
Думаю, не имеет решающего значения, так ли уж хороши Ваши стихи, слишком слабы или чрезмерно уж посредственны. Главное в том, что, когда человек наполняет чернильницу, пододвигает ее поближе к себе и чуть дрогнувшей рукой берется за гусиное перо,— это уже хорошо. Ибо что-то происходит! И не столь уж обычное...
Гайоз-батоно,
это ничего, что теми же гусиными перьями многоразновидные пигмеи из числа властителей судеб рода человеческого подписывали всяческую чушь, всякие дурацкие законы-уставы-постановления, в Ваших руках, в Вашем деле гусиное перо — нечто совсем иное, ибо совсем иное пернатое терзает в клочья Вашу подвигнутую высоким влечением душу.
Многоуважаемый Гайоз,
Вас вечно теребит изнутри Ваша же собственная душа, потому что Вы, ища выхода и спасения, вечно скребете, подтачиваете напильником собственной души решетку печалей и горестей. Хоть Вы и человек стиха, однако можете вовсе и не ведать сами, насколько вам любезна свобода; но где оно, такое стихотворение! Вот Вы и мыкаетесь, подобно Киколи, в непроглядной тьме, и, кто знает, может, и набредете когда-то если и не на взметнувшийся под самое небо костер, то хоть на угасающего светлячка, и то хорошо;
Глубокоуважаемый Гайоз,
пока Вы дерзаете и ищете, кто-то будто вычерпывает из вашей души деревянной ложкой всякого рода нечисть, и Вы полнитесь светом: человек, пишущий стихи, что-то или кого-то любит, а ведь и то и другое — прекрасно.
Батоно Гайоз,
Ваши влюбленные глаза не рыскают, как у других, по-бесовски черт-те где, ибо над вами властвует добрый бес — в том, Вашем деле даже бес может быть добрым; и что только не происходит при сочинении стихов; вот так оно и с Вами.
Силою любви маленький владыка, Гайоз!
Что с того, что вы пишете слабые стихи, все равно пылающие в сердце Вашем уголья требуют, чтоб в них постоянно вдыхали душу. И не велика в том беда, что Вы чуть-чуть втайне гордитесь собой, большое дело! — мы все не прочь немного порисоваться, недаром артистизм сродни поэзии; зато ведь как часто Вас гложут сомнения, но о сомнениях потом. Писать стихи в Грузии очень трудно, ну и что ж такого, если порой Гайоз Джаши исподтишка тайком пописывал:
Гайоз Джаши писал свои стихи втихомолку, по-воровски.
Рассвело мирное утро.
В один из райцентров Грузии — Сачхере — прибыл, всем на радость, поезд, доставивший сюда, в числе прочих, трех братьев Кежерадзе — Шалву, Василия и Григола.
Приняли их, кстати сказать, весьма недурно: на разубранном, — в знак уважения к братьям, — ширазскими розами перроне выстроились и задули в рожки везири; встречали дорогих гостей и султан со своей дочерью, и царь Севера, и владыка морей с неизменным тризубцем в руках, и платиновая рыба; был тут и тщательнейшим образом выстриженный и выбритый девятиглавый Бакбак-дэв с залепленным лейкопластырем коленом; почтительно представились приезжим и прирученные снежные человеки; там же стояли навытяжку полукурица и Олег Котиевич Хандаханумашвили; для произнесений! приветственной речи из бутылки был выпущен ненадолго под честное слово джин; присутствовал тут и лилипутский вождь-богатырь, а две женщины — бесхвостая и хвостатая — все сыпали и сыпали под ноги почетным гостям золото; Васико же особо было преподнесено серебряное блюдо с присланной самим Стендалем (Анри Бейлем) черной и красной икрой; в толпу встречающих замешались и не виданные под солнцем красавицы, следовавшие за своим господином и повелителем — падишахом, все в черных очках, и чугуретский Диплипито со своей компанией; порхала тут же и стайка кинозвезд, вышагивали важно и знатные римляне в окружений почетной свиты, и целые когорты... Ну чего мы, право, чушь порем; решительно никто никого не встречал, да и кто бы там устраивал торжественную встречу этим нашим братьям?! Приехали, ну и ладно. Только какой-то паренек, пригнувшись, завязал шнурки на туфлях да какая-то женщина продавала петрушку, вот тебе и все; но что правда — правда, не лил дождь, да и грома не слыхать, а высоко в небе вовсю сияло солнце — как видно, те края приняли братьев.
И, будто в благодарность за это, средний из них, Васико, хоть и невольно, но все-таки принес жертву — оглядев себя, он приметил, что у него недостает одной из пуговиц. Правда, на пиджаке. Но не из того десятка был Васико, чтоб это его обескуражило: «А ну ее к черту, — подумал он, — эту проклятую пуговицу».
Хо-рро-шаа Грузия, хорош, конечно же, и Сачхере. Глянули окрест себя — кругом горы, да и трудно ли увидеть в Грузии горы — пустяки! Хотя глаза-то, глаза вам отнюдь не пустяки. Только горы были здесь какие-то совсем особенные, насквозь пропитанные имеретинским теплом; да и все здесь было словно бы пропитано мягкостью, деликатностью, вежливостью — и люди, и даже небо, так и хотелось стоять и смотреть, смотреть не отрываясь, но поскольку капризная плоть требовала своего, братья поспрошали того-этого и заглянули в первое же попавшееся на пути кафе, под вывеской «Сею-вею». И, представьте, дело обошлось не так плохо — они убереглись и от отравления, и от всего такого прочего, им даже очень впрок, словно домашний чай и молоко кормилицы, пошли гуляш и кебаб.
Но искусство, как и все прочее в том же роде, тоже ведь требует своего. И вот они, не найдя ничего более подходящего, вступили ногой в парк культуры и отдыха; тут же, при входе, скинули с плеч тяжеленные вещмешки и, поставив их перед собой, присели на скамью. Поначалу они благосклонно разглядывали флору данного сада, но под конец Гриша не выдержал:
![Сатанстое [Чертов палец]](/uploads/posts/books/150862/150862.jpg)
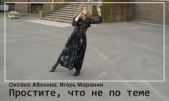
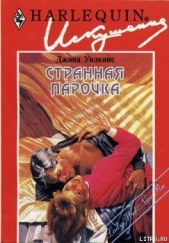
![Там, за поворотом [СИ]](/uploads/posts/books/no-cover.jpg)






















