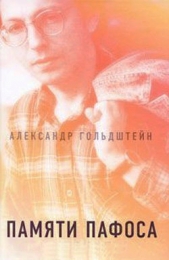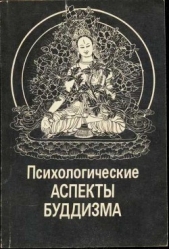Аспекты духовного брака

Аспекты духовного брака читать книгу онлайн
Новая книга известного эссеиста, критика, прозаика Александра Гольдштейна (премия Антибукер за книгу «Расставание с Нарциссом», НЛО, 1997) — захватывающее повествование, причудливо сочетающее мастерски написанные картины современной жизни, исповедальные, нередко шокирующие подробности из жизни автора и глубокие философские размышления о культуре и искусстве. Среди героев этого своеобразного интеллектуального романа — Юкио Мисима, Милан Кундера, рабби Нахман, Леонид Добычин, Че Гевара, Яков Голосовкер, Махатма Ганди, Саша Соколов и другие.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В людной улице Кирьят-Арбы, где гуляет народ в злом, смелом городе, Козельске поселенцев, есть могила однофамильца моего, Баруха Гольдштейна («золотой камень» на идиш), который 25 февраля 1994 года перестрелял несколько десятков мусульман в молитвенной зале Пещеры Праотцев и принял растерзание от рук случайно уцелевших; сегодня, сейчас, когда тесню строки чернильной ручкой с нажимом, исполнилось его поступку семь лет. Скорострельную М-16 разрядил Барух затем, чтобы судорогой возмущения свело переговоры с арабом, чтобы сложенный из трупов оборонительный вал не позволил просочиться гнили, чтобы история перевернулась в гробу. Бойней в минуту остролиственной свежести, на рыхлом краю весны надеялся он отменить забрезжившее согласие мира ценою отдачи земли, на короткую пору кое-что ему удалось.
Теперь внимательно слушайте, мне нужна ваша поддержка, после всего, что со мною не произошло.
Сегодня, 25 февраля 2001 года, мы должны были выйти вдвоем в Кирьят-Арбе из автобуса Тель-Авив— Кирьят-Арба. Неторопливым, ровным шагом прийти к могиле Баруха, неся как урну с прахом брата и отца емкость с позлащающей краской. И медленно, просто, затверженно, не выпадая из сна, в коем нас охватили видения неистовой плавности и спокойствия, окрасить ею надгробие, монотонно, столько раз, сколько было убитых, произнеся по-арабски «Аль халас нахас» («Исходит душа»), последние слова умершего в Каире шейха Генона. Красил бы, понятно, я, волосяной кистью, широкими мазками, как Гольдштейн Гольдштейна. Камню снова даруется золото, он получает свое, причитающееся, становится золотым. Но это значит… о, это значит — и я, пишущий стальным пером в линованной, мягкой, английского производства тетради, чувствую себя опьяненным, будто бутылку савиньонского каберне перелили в желудок мой без закуски, — что субстанциальное тождество постигло, накрыло, обрушилось на всех участников драмы великого возвращенья к себе, ибо все мы: надгробие, Барух, я, наше общее имя — наконец стали бы каменно-золотыми, не отличимыми друг от друга.
Малярным работам не придавали мы никаких политических смыслов, еще меньше того (если одна пустота может быть пустее другой) собирались дразнить, провоцировать, эпатировать. У нас, исполнителей акта окрашивания, нет своего отношения к мотивам мрачного рассудка Баруха, к пальцу на спусковом крючке и воплям нанизанных на винтовочную очередь богомольцев, к тряпичной кукле тела, забитого стальными прутьями, жасминовыми тирсами коленопреклоненных вакхантов намаза. Мы нейтральны, мы выскоблены и очищены от подозрений, потому что корысть наша в ином: ничто не закончится и ничто не начнется, покуда труп, имя, могила не сойдутся в единстве своего самотождества. Лишь тогда погаснет раскаленное негодование памятника, ужасный покойник перестанет рвать отросшими ногтями саван, а имя сольется с человеком, отказавшись быть белой повязкой на лбу. До тех пор времен года в Палестине не будет.
Но в день и час, когда должен был бесстрастно водительствовать в Кирьят-Арбе, я у окна своей конуры пишу мелкими буквами буквы в тетради, продолжаю себя между строк, умещая две линии там, где место одной. Только ли страх удержал, да, конечно, и страх, святилище правоэкстремистского культа, напояемое теплой кровию поколений, блюдется могила доброхотными стражами, и, смутив мертвеца, мы были бы ими затоптаны, что еще полбеды в сравнении с госвозмездием, у меня хватит фантазии апперцепировать, как пинками под зад втолкнут нас, подонков и провокаторов, в коллективную камеру носом к параше, попрошу изолировать от подробностей, я противник анальной гнуси. Страх, и какой еще страх, но не только, не только; для страданий вера нужна, стоит ли ехать мне в Кирьят-Арбу без веры, я так накануне и заявил Александру, он упорно меня уговаривал, одумайся, мол. Что ж ты раньше про веру молчал, выл он, хоть к тюрьме, хоть к побоям готовый. Ну пойми же, я ему отвечал, что та вера, которая нужна была раньше, — в идею, в замысел, в параболу воображения сущностей — у меня есть и сейчас, а для поступка, страданий вторая, сильнейшая вера нужна, вера в самое действие. Как быть, если в идею по-прежнему верую, а в действие и страдание — нет?
Простились мы холодно. Он меня презирал. Он был прав. Но я уже мыслями витал в стороне. Мне кажется, я был далеко от него, и от себя, надеюсь, тоже. В какой-то игольчатой, хвойно-ласковой, грозной области, манящей и огнисто-синей, с наплывами тумана по краям гор и над реками, загадочной, если смотреть слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз. В изнеможении я лег на диван и, перед тем как заснуть, увидел щемящие подробности этой страны, дожидающейся разведчика ее родников, металлов, растений, озер, ждущей мастера геогнозии. Молодой обреченный голос произносил слова радостно и по-книжному, дабы я мог их запомнить. Я уже знал их однажды, а проснувшись, нашел в изголовье темный томик с закладкой и перечитал.
«Поэзия есть воистину абсолютно Реальное. Это ядро моей философии. Чем поэтичнее, тем истиннее.
Всякое слово есть слово заклятия.
У древних религия была уже в известной степени тем, чем она должна стать у нас — практической поэзией.
Поэт и жрец были вначале едины, и только позднейшие времена их разделили. Но истинный поэт всегда оставался жрецом, так же, как истинный жрец — поэтом. И не должно ли Грядущее вновь возвратить древнее состояние вещей?
Настоящая сказка должна быть в одно и то же время пророческим, идеальным, абсолютно необходимым изображением.
Идеализм не что иное, как истинный эмпиризм.
Волшебник — поэт. Пророк так относится к волшебнику, как человек вкуса — к поэту.
Уничтожение воздуха — это восстановление Царства Божьего.
Нет ничего отрадней, как говорить о наших желаниях, если они уже исполняются.
Поэт понимает природу лучше, чем какой-нибудь ученый.
Играть — это производить опыты со случаем.
Разве все люди должны быть людьми? Могут в человеческом образе жить также существа совсем иные, чем люди.
Поэзия есть база общины, так же как добродетель — база государства.
Всякое духовное прикосновение подобно прикосновению волшебного жезла. Все может быть волшебным оружием.
Чрез сопряжение между словами можно творить чудеса.
Всякий излюбленный предмет есть центр рая».
Ничего больше сказано не было, и осталось, в общем, немного.
О литературной эмиграции
Радость в связи с исчезновением литературной эмиграции, радость, оправдываемая благими намерениями, не только неприлична, но и вредна. Демократическое сознание, воспитанное в ненависти к имперскому характеру культуры, безрассудно пытается его подорвать и тем самым лишить глубины сложный, включающий очаги диаспоры состав русской словесности. Вновь набрала силу малоаппетитная идея единства литературы: не так важно, где находится писатель — в Москве, Нью-Йорке, Берлине (подтекст такой, что жить надо в Москве, но об этом, щадя эмигрантов, говорят не всегда), важно, что сочиненное им вольется в общую реку — «вернуться в Россию стихами». Между тем имперской литературе, какой и надлежит быть русской словесности, подобает тяготеть к иноприродности, ина-ковости своих проявлений. Необходима поддержка очагов литрассеяния не как частиц и клеточек общего тела с начальниками в московских издательствах и журналах, а в качестве самостоятельных организмов, использующих тот же язык, но с особыми целями, продиктованными особыми же геолитературными нуждами. Культура империи выказывает мощь в тот момент, когда ей удается выпестовать полноценный омоним, выражающий чужое содержание средствами материнского языка. Исходя из собственной, подчеркиваю, собственной выгоды, культура остывшей империи должна сказать пишущим по-русски украинцам, немцам, казахам, киргизам, узбекам (если они еще не бросили своего гиблого дела) и в первую очередь израильтянам как самому многочисленному отряду: ваша литература не русская, а русскоязычная, и это хорошо, именно это сейчас мне и требуется. Она существует, она исполнена смысла.