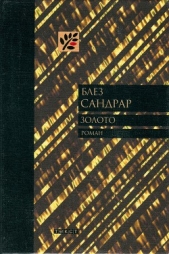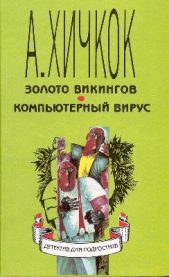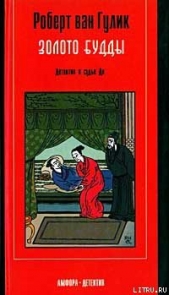Золото Неаполя: Рассказы
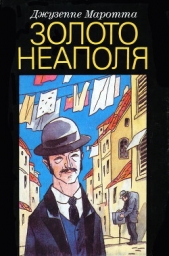
Золото Неаполя: Рассказы читать книгу онлайн
Книга знакомит советского читателя с творчеством одного из самых интересных и популярных писателей послевоенной Италии, лауреата многих литературных премий Джузеппе Маротты (1902–1963). В сборник включены рассказы из книг, написанных в разные годы: «Золото Неаполя», «Ученики Солнца», «Ученики времени», «В Милане не холодно», «Камни и облака» и др.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Итак, первый отрывок, который учительница Джакомелли предложила откомментировать своей ученице, был рассказ о моей сестре, вот этот: «Сестра стала ужасно длинной, ноги свешивались у нее с кровати, и мать, проснувшись, укутывала их шалью, которая тут же разматывалась и свисала с них, как знамя, держась только на больших пальцах; сколько раз я смотрел на эту серую тряпку, когда утро навевало на меня свой сладкий и непрочный, свой обманчивый сон; солнце в этот час било прямо в лодыжку сестры, как в зеркальце, а на противоположной стороне кровати, на подушке, я видел ее волосы, казавшиеся в полумраке странно синими, и думал: „Какая она красивая!“»
Двадцать четвертого марта тысяча девятьсот сорок девятого года в Монторсо Винчентино ученица Лейла Кадзавиллани думает-думает и вот как воспроизводит эту сцену: «Мы видим писателя, который показывает нам комнату, где спали он и его сестра; он и сейчас еще помнит, как все было, когда он был маленьким. Его мама укутывала ноги девочки шалью, но она разматывалась и болталась. Обманчивый мальчик смотрел одним глазом на ноги сестры, свисавшие с кровати, но также и на ее голову, потому что она была красивая».
Все точно, дорогая Лейла, включая и «обманчивого мальчика». Здесь твоя учительница вписывает для меня красным: «На малышку, видимо, сильно подействовала эта деталь — шаль, свисающая, как знамя; она кажется ей загадочной, и отсюда это неожиданное, таинственное и странно суггестивное „обманчивый мальчик смотрел…“»
Вы правы, синьора (или синьорина) Джакомелли, это вполне вероятное объяснение; и мой красный карандаш, в точности так же, как и ваш, непременно почтил бы «обманчивого мальчика»; а сколько других маленьких деталей, необъяснимых, но прекрасных подкладывают специально подосланные ангелы в чернильницы тех из пишущих, кому от роду девять лет, или тех, кто по какой-то причине хотел бы всегда иметь только девять лет! Эти специально подосланные ангелы, не слишком ли они любят школьницу Марию Лавеццо? По поводу того же отрывка она написала вот что: «Однажды ночью у сестры писателя ножки сделались длинными-длинными. Кроватка стала ей мала, она умещалась в ней только наполовину. Когда мать вставала, она укрывала ей ножки шалью. Писатель, поворачиваясь на другой бок, увидел сестру с ее черными волосами и длинными ногами. Девочка спала неспокойно, и шаль то и дело падала. Вот смеху-то!»
Здесь снова красным карандашом учительница вписывает свой ко мне вопрос: «Не правда ли, в этих строчках чувствуется вся свежесть и чистота, присущая сказке?» Мне хотелось бы сказать «да», но мешает чувствительность. Это действительно настоящая пропасть! Синьора учительница, когда наконец я достигну ее дна?
А вот другой мой отрывок, который изучали в школе Монторсо: «Тем временем наступила ночь, и Неаполь вспыхнул всеми своими огнями. От улицы Партенопе до Позилиппо море пылает его отраженным светом; у рыб болят глаза, а туристу, едущему в коляске по набережной, не видны вздыхающие на тротуарах кучи тряпья, но зато он ясно различает в море скелеты сирен, которые ворочаются с боку на бок в своих песчаных могилах».
Ученица Рита Филипоцци, которую попросили о нем написать, написала так: «У нас в Монторсо мы бываем довольны и тогда, когда на закате небо становится розовым. А вот в Неаполе небо прямо пылает! И у нас здесь нет светящегося моря, только долина, полная воды. Там у них даже рыбы закрывают глаза, не вынося этого блеска. А в наших краях и рыб нет, только лягушки. По Неаполю разгуливает множество туристов, а у нас не видно никого: если бы кто-нибудь появился, все бы сбежались на него посмотреть. Говорят, что в городе моряков много прекрасных сирен, этих полурыб, полуженщин, а в Монторсо их нет, в наших краях они не водятся. Зато у нас очень много детей. Я знаю всех и со всеми играю».
Вам нравится? Тогда вот вам те же сирены в описании ученицы Маризы Марини: «В Неаполе есть красивые рыбы, которые выглядят как женщины; у них кудрявые волосы, они живут в воде, но волосы у них всегда сухие; когда путешественники, путешествующие на кораблях, видят этих красивых рыб и останавливаются, чтобы их разглядеть, корабли опрокидываются и тонут в море; у нас их никто не видел. Там, в Неаполе, очень красиво, а здесь не так красиво».
Но почему же «не так»? Мариза, Рита, Лейла, послушайте меня: все описываемые страны становятся прекрасными лишь в том случае, если специально подосланный ангел вложит в чернильницу рассказчика некие непостижимые и завораживающие слова; и этот ангел каждый день сидит рядом с вами за партой, а ко мне он больше не приходит. Я расстался с ним именно в школе и именно в Неаполе, как раз в то время, когда моя сестра начала становиться тем длинным древком для серого знамени, о котором вы уже знаете. Где они, небеса, которые бы действительно пылали, где зеленый и желтый, который действительно был бы зеленым и желтым, где так точно угаданный мною в те годы мир — пейзажи, предметы, люди, на которых было словно написано: «Осторожно, окрашено!»? Где все это? Где они, мелкие эпизоды, способные разрастаться до бесконечности, те, что так нравятся господу богу, который развил до размеров Большой Медведицы концепцию одного камешка? Где чувствительность, которая в ту пору, когда рядом не было предостерегающих друзей, была совершенно не опасна?
Тогда, в ту пору, мне достаточно было, сидя за своей партой, среди оборванных школьников «Дишеза Санита», просто описывать все, что я видел, и все, что чувствовал: триумф был обеспечен, и как легко он мне давался! Вот учитель Прокопио сходит с кафедры, держа в руке исписанные мною листочки. У священника, внушающего всем страх, необычно блестят глаза, он гладит меня по голове и восклицает: «Как это тебе удается уже сейчас думать о таких вещах? Пойдем, счастливец, пойдем прочтем твое сочинение параллельному третьему. Отец, Сын, и Святой Дух — нет, как это у него получается!»
А вот получалось же! Сейчас я, конечно, уже позабыл, что за «обманчивый мальчик» фигурировал в тех первых моих набросках, но зато я хорошо помню, что мои выпускные экзамены сопровождались обстоятельствами, достойными описания. Им предшествовало долгое перешептывание и вообще всяческая конспирация среди учителей и учительниц, которые преподавали в моей школе. Речь шла о вступительном взносе, который измерялся пятью лирами, но моя семья ими не располагала. «Прерывать учение… это было бы настоящим преступлением», — вскричал учитель Прокопио, когда я сообщил ему, страдая и наслаждаясь (камешек рос, он был уже величиной с половину Большой Медведицы!), как обстояли у нас дела. Он взял меня за руку, и мы пошли к моей матери, в соседний переулок Сант-Агостино-дельи-Скальци.
Еще и сейчас, как удары потонувшего колокола, звучат у меня в ушах шаги священника, укутанного в его плотное одеяние; мы входим в дом, и тень колеса с улицы падает на новорожденного младенца нашей консьержки, который спит вверх ногами между ножками перевернутого вверх ногами стула.
— Я только милостыни не просила, достопочтенный падре, — говорит моя мать со слезами на глазах, удерживаясь от того, чтобы не заплакать в голос.
— Отец, Сын и Святой Дух… и все-таки надо что-то придумать, — говорит мой пропыленный учитель.
Они смотрят друг на друга и молчат: Большая Медведица уже создана, вся целиком, у нее положенное число звезд и положенная дистанция световых лет. Я смотрю вверх, пробегая взглядом от самого пола по двум изнуренным, потрепанным фигурам, пока не останавливаюсь на дорогих мне лицах: мои глаза останавливаются на них именно так, как останавливались бы они на куполе планетария. Дон Прокопио оказался очень сообразительным. Чтобы не лишить меня аттестата зрелости, он придумал сбор пожертвований среди учителей. Тогда и начались эти перешептывания за кафедрами и в коридорах: ведь в ту пору два сольдо — это была сигара, или стразовая заколка, или легкая закуска; однако последнее мое сочинение рассеяло все колебания. Дон Прокопио прочитал его таким голосом, каким обычно он читал с алтаря, а потом повторил чтение во всех классах, побудив к пожертвованию даже школьного сторожа.